|
Как носить кольцо Святой Екатерины
Есть один форум, который я ещё год назад начала читать время от времени. И есть там ветка, где пишут рассказы о том, как люди становятся родными. И такая жизненная концентрация в них, что просто диву даюсь. Перечитывала уже не раз. И решила поделиться этими историями.В большинстве своём о приёмных детях.
 Свадьба…кольца, лица родственников, музыка, танцы, застолье, красавица невеста в центре внимания… Один из самых главных дней в Жизни. Создается новая семья. Закладывается её будущее. И хочется, чтоб этот день стал особенным и запомнился надолго.
Свадьба…кольца, лица родственников, музыка, танцы, застолье, красавица невеста в центре внимания… Один из самых главных дней в Жизни. Создается новая семья. Закладывается её будущее. И хочется, чтоб этот день стал особенным и запомнился надолго.
Сейчас у нас в России очень странный свадебный ритуал. И если взять разные аспекты этого ритуала, то можно проследить как фактически само его проведение, закладывает программу в молодоженах на разрушение, на несчастную Жизнь.
Это происходит двумя способами - с помощью программирования и чёрной магии.
У каждого человека понятие «чёрная магия» вызывает абсолютно разные мысли и ощущения - многие боятся её как огня, другие просто сторонятся, третьи не верят и уверяют, что в природе не существует ни магии, ни какого-либо колдовства. Но есть и те, которые знают, что она существует и, мало того, встречается в жизни намного чаще, чем можно предположить. Почитайте любой учебник по чёрной магии, и вы удивитесь - что вы делаете сами с собой.
Чёрная магия - это намного больше, чем произнесенное вслух заклинания в окружении необходимой атрибутики. Чёрная магия - это работа с энергией людей, с силами, которые не видны обычным людям.
В сознание жертвы внедряется определенная информационная программа, для её внедрения необходимо ослабить или разрушить защитное поле, которым обладает каждый человек. И всё это четко прослеживается на свадьбе - алкоголь, сильные эмоции, яркие цвета, шум, крики и т.д.
Давайте рассмотрим - чего мы не замечаем за веселым застольем? Какой сакральный смысл НА САМОМ ДЕЛЕ скрывается под привычными обрядами?
Так ли все светло и радостно, как мы привыкли думать? И стоит ли так легкомысленно подходить к этому?
По большей части - это закрытая информация, которую не так просто найти в открытых источниках. Осторожно, она может вызвать шок.
Начнем с самого начала…
Мальчишники и девичники.
Диета
Итак, по немногочисленным просьбам - история моего похудения.
Первая неделя.
День первый.
10-00 Он назвал меня Тумбой. Очень обидно, но при взгляде в зеркало, складывалось впечатление, что я действительно, напоминаю корпусную мебель.
- Сам козел, - пробурчала я. Но мысль запала.
15-00 Еду в магазин, чтобы расставить все точки над i.
18-00 Полный крах. У них не шьют чехлов для роялей. А гадостный взор продавца в ответ на мою просьбу принести брюки 44 размера, я буду помнить даже на смертном одре. Сунулась было к Кляйну в надежде что у них есть 44.5. Лучше бы я этого не делала! Выдрюченная девочка носилась к моей примерочной, как загородная электричка между Пендюкино и Мамырями. 44.5, 45, 46, 46.5. Процесс остановился на 48.
Приду домой, нажрусь слабительного и умру.
23-00. Слабительного не было. Ищу всяческие отговорки. Да и вообще, какая свинья выдумала «идеальную фигуру»? Подхожу к зеркалу, и пытаюсь втянуть живот. Живот не проявляет никаких признаков жизни и висит, как мотня у ночного сторожа. Ну и что? Что в этом, спрашивается такого? Я родила 3 месяца назад, и вполне имею право немножечко поправиться.
- Ты слышишь, я родила тебе ребенка!
- Ага. Но вид у тебя такой, как будто внутри, к нагрузку в ребенку, находится детская кроватка «Можга» и комод с пеленальным столиком.
- Козел, - бурчу я. И понимаю что повторяюсь.
Надо что-то делать.
1. А.С. Пушкин «Сказки»: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке».
2. Русские народные сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Морозко», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Крошечка-Хаврошечка», «По щучьему велению» и др.
3. Агния Барто «Игрушки» («Бычок», «Мишка», «Слон», «Самолёт», «Лошадка», «Грузовик», «Мячик», «Зайка», «Козлёнок», «Кораблик»). «Мы с Тамарой» (Мы с Тамарой, Катя, Жадный Егор, Любочка, Я лишний, Медвежонок-невежа).
4. Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино».
5. Корней Чуковский «Айболит», «Бармалей», «Бибигон», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха».
6. Сказки народов мира.
7. Ирина Токмакова «Стихи».
8. Сергей Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», «Рассказ о неизвестном герое».
9. Маршак С. Я. «Вот такой рассеянный», «Двенадцать месяцев», «Усатый-полосатый» и другие стихи.
10. Дональд Биссет «Сказки».
11. Г. Фаллада "Фридолин - нахальный барсучок", "Геометрия для малышей", "Шагал один чудак", "Настоящий тигр".
12. Геннадий Цыферов "Сказки старинного города", "Дневник медвежонка".
13. Л. Мур «Крошка Енот».
Добавлено спустя 34 секунды:
В 5-6 лет:
1. Г. Х. Андерсен «Сказки» («Гадкий утёнок», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Волшебный холм», «Новый наряд короля», «Дорожный товарищ», «Принцесса на горошине», «Дочь болотного царя», «Калоши счастья», «Маленький Клаус и Большой Клаус», «Русалочка», «Огниво», «Сундук-самолет», «Старый дом», «Суп из колбасной палочки», «Дюймовочка», «Штопальная игла», «Дикие лебеди» и др.).
2. П. П. Ершов «Конёк-горбунок».
3. Р. Киплинг «Сказки».
4. Сергей Аксаков «Аленький цветочек».
5. В. Катаев «Цветик-семицветик».
6. Джоэль Ч. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» («Как оживить сказку», «Братец Лис и Братец Кролик» и другие).
7. Ян Экхольм «Тутта Карлссон Первая и единственная», «Людвиг Четырнадцатый» и другие.
8. Г. Остер «Вредные советы», "Бабушка удава".
9. В. Бианки «Лесные были и небылицы», «Муравьишка» и другие.
10. Братья Гримм «Сказки» («Бременские музыканты», «Волк и семеро козлят», «Горшочек каши», «Бабушка Метелица», «Король-лягушонок или Железный Генрих», «Мальчик-с-пальчик», «Белоснежка и семь гномов», «Синяя Борода» и другие).
11. Дж. Родари «Приключения Чиполлино», «Путешествие Голубой Стрелы».
12. Т. И. Александрова «Домовенок Кузя».
13. Д. Хармс «Стихи для детей», «Плих и Плюх».
14. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо».
15. Кир Булычев «Приключения Алисы» («Путешествие Алисы», «Заповедник сказок», «Миллион приключений», «Конец Атлантиды», «Подземная лодка», «Алиса и крестоносцы», «Война с лилипутами»).
16. Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон», «Пеппи - Длинный чулок», «Эмиль из Леннеберги».
17. Анне Вестли "Мама, папа, 8 детей и грузовик".
18. Алан Александр Милн «Винни Пух и все-все-все», "Баллада о королевском бутерброде".
19. А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный бог Марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка».
20. «Азбука» Стихи и сказки о буквах и звуках.
21. М. Салье «Сказки тысячи и одной ночи» (семь путешествий Синдбада-морехода, повесть о скитаниях принца, ставшего нищенствующим дервишем, история о Медном городе, Абдаллах Земной и Абдаллах Морской, Абу Кир и Абу Сир, сказка об Ала ад-Дине и волшебном светильнике, истории о яйце птицы рухх и сокровищах пирамид и другие).
22. Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и мышиный король».
23. Е. Шварц «Сказки» («Сказка о потерянном времени»).
24. Шарль Перро «Сказки» («Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая красавица», «Золушка, или хрустальная туфелька»).
25. С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
26. Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит или туда и обратно».
27. Усачёв А. «Умная собачка Соня».
28. Саша Чёрный "Дневник Фокса Микки".
29. А. Балинт «Гном Гномыч и Изюмка»
30. Л. Пантелеев «Буква «ты», «Фенька», «Две лягушки» и др.
31. Б. Житков «Что я видел», рассказы
32. В. Гаршин «Лягушка-путешественница» и др. сказки
33. К. Грэм «Ветер в ивах»
34. В. Чаплина «Питомцы зоопарка»
35. И. Бабич «Мои знакомые звери»
36. В. В. Голявкин «Тетрадки под дождем»
37. Юрий Сотник «Как я был самостоятельным»
38. Юрий Коваль «Приключения Васи Куролесова»
39. Михаэль Энде «Бесконечная история», «Джим Пуговка и машинист Лукас», «Джим Пуговка и Чертова Дюжина», «Момо или Сказка о похитителях времени».
40. Мира Лобе «Городок Вокруг - да - Около»
41. Томин Юрий «Шел по городу волшебник»
42. Владимир Железников «Жизнь и приключения чудака»
43. Юз Алешковский «Кыш и Двапортфеля».
44. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила».
45. Памела Треверс «Мэри Поппинс с Вишнёвой улицы».
46. Отфрид Пройслер «Сказочные повести» («Крабат: Легенды старой мельницы», «Гном Хёрбе Большая Шляпа», «Гном Хёрбе и леший», «Маленькая баба-яга», «Маленькое привидение», «Маленький водяной», «Разбойник Хотценплотц и перцовый пистолет»).
47. Н. Носов «Фантазёры», «Затейники», «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне», «Витя Малеев», «Приключения Коли и Миши».
48. Коллоди К."Приключения Пиноккио"
49. Толстой А. Н. "Золотой ключик, или Приключения Буратино".
50. Данько Е.Я. "Побежденный Карабас".
51. Кумма А., С. Рунге. "Вторая тайна Золотого ключика: Новые приключения Буратино и его друзей".
52. Виталий Губарев «Королевство кривых зеркал».
53. Эсфирь Эмден «Дом с волшебными окнами».
54. Монтейру Лобату «Орден желтого дятла».
55. Альберт Иванов «Приключения Хомы и Суслика».
56. Аркадий Хайт «Приключения кота Леопольда».
57. Кротов Виктор «Червячок Игнатий и его друзья», «Червячок Игнатий и его открытия».
-
 Лю
Лю
Помнится, мой все просил перечитать сцену приготовления зелья у Гингемы! А как злился на Бастинду! Нет, старые добрые книги ничто не заменит!
2. Желтый туман
Из всех продолжений "Волшебника" это, да еще, пожалуй, "Семь подземных королей", самые лучшие. И никакой жестокости, даже к врагам. А ведь это такая редкость по теперешним временам.
3. Хоббит
Не "Властелин", а "Хоббит". Какая ирония, какие приключения, какие характерные, милые персонажи. К ним привязываешься душой, их начинаешь любить... Самой читать интересно, а уж детям…
4. Сказки народов мира

В любом сборнике. Это дети любят слушать, это им нравится. Это они и перечитывать любят.
5. Вафельное сердце

Одна из самых добрых книг. Автор Мария Парр. Детям очень нравилось читать про игры Ленки и ее друга, их деревню и родителей. Такой маленький уютный мир. Сладкий даже.
6. Руслан и Людмила

Пушкин - это наше все. Как он воспитывает вкус? Дети так переживали, когда я читала. Волновались, а потом были рады. Даже играть в Руслана и Людмилу стали.
7. Маленький водяной, Маленькая Баба-яга, Маленькое привидение

Почти все смотрели мультик "Маленькая колдунья". Или диафильм (ах, как жаль, что сейчас их не издают!) Как их тянет прочесть еще, и еще. Мне пришлось покупать книгу заново, первую сын зачитал...
8. Цирк в шкатулке

Моим детям очень нравится читать о том, о чем бы они хотели узнать. Так хотелось попасть за кулисы в цирке, а тут стало возможно. Сабитовой открыла эти тайны. Читать было интересно.
9. КОАПП
Мультик многие знают. А книгу Константиновского почти никто!
10. Карлсон

1. Лидия Чарская «Сибирочка», «Записки маленькой гимназистки», «Записки сиротки», «Романтические истории для девочек».
2. Фрэнсис Ходгсон Бёрнетт "Маленький лорд Фаунтлерой", "Таинственный сад", "Маленькая принцесса"
3. В. Драгунский «Денискины рассказы».
4. Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч».
5. Эно Рауд «Муфта, Полботинок и Моховая борода».
6. С. Прокофьева «Лоскутик и облако», «Приключения желтого чемоданчика».
7. Р. В. Шульжин «Фунтик и старушка с усами».
8. Туве Янссон «Муми-тролли» («Шляпа волшебника», «Хемуль, который любил тишину», «Муми-тролль и комета», «В конце ноября», «Мемуары папы Мумии-тролля», «Муми-папа и море», «Весенняя песня», «Опасное лето», «Волшебная зима»).
9. Лучано Мальмузи «Неандертальский мальчик в школе и дома», «Неандертальский мальчик, или Большой поход», «Неандертальский мальчик и кроманьонцы».
10. Е. Велтистов «Приключения Электроника», «Рэсси», «Миллион и один день каникул».
11. Р. Киплинг «Маугли».
12. Ю. Олеша «Три толстяка», «Слепой музыкант».
13. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена».
14. Ян Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
15. Лаймен Фрэнк Баум «Удивительный волшебник из Страны Оз», «Страна Оз», «Озма из Страны Оз», «Дороти и Волшебник в Стране Оз», «Путешествие в Страну Оз», «Изумрудный город Страны Оз».
16. Алан Гарнер «Волшебный камень Бризингамена», «Луна в канун Гомрата Элидор».
17. Конрад Лоренц «Агрессия», «Человек находит друга».
18. Дэвид Эттенборо «Мадагаскарские диковины».
19. Сергей Козлов «Ежик в тумане», «Правда, мы будем всегда?», "Львенок и Черепаха", "Трям, здравствуйте!".
20. Бранко Чопич "Приключения кота Тоши".
21. Айно Первик "Чаромора".
22. Крылов «Басни».
23. Сергей Михалков "Басни".
24. Йон Колфер «Артемис Фаул»
25. В. Маяковский "Кем быть?".
26. Джой Адамсон «Рождённая свободной», «Живущая свободной», «Навсегда свободная», «Пятнистый сфинкс», «Моя беспокойная жизнь».
27. А. Чехов «Каштанка».
28. Эрих Кестнер «Малыш из спичечной коробки», «Двойная Лоттхен» (Das doppelte Lottchen).
29. Мери Мейп Додж «Серебряные коньки».
30. Дж. Крюс «Тим Талер, или Проданный смех».
31. Екатерина Матюшкина, Екатерина Оковитая «Ага, попался!», «Лапы вверх!», «Носки врозь!».
32. Луис Сепульведа «Мама-кот, или История про кота, который научил чайку летать».
33. Ирина и Леонид Тюхтяевы «Зоки и Бада».
34. Сабине Людвиг, Сабине Вильхарм «Мопс и Молли Мендельсон».
35. Нестлингер К. «Долой огуречного короля!».
Добавлено спустя 43 секунды:
В 9-10 лет:
1. А. Погорельский «Черная курица или Подземные жители».
2. Андрей Некрасов «Приключения капитана Врунгеля».
3. П. П. Бажов «Уральские сказы» («Медной горы хозяйка», «Малахитовая Шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточка», «Две ящерки», «Приказчиковы подошвы», «Таюткино зеркальце», «Про Великого Полоза», «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце», «Золотой волос», «Богатырёва рукавица», «Кошачьи уши», «Иванко-Крылатко», «Чугунная бабушка», «Живинка в деле», «Солнечный камень», «Васина гора» и другие).
4. А. Беляев «Остров погибших кораблей», «Голова профессора Доуэля».
5. Даниэль Дефо «Приключения Робинзона Крузо».
6. Марк Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Геккельбери Финна», «Янки при дворе короля Артура». Рассказы.
7. Г. Каттнер «Котел с неприятностями», «Прохвессор накрылся».
8. А. Азимов «Конец вечности», «Стальные пещеры», «Обнаженное солнце», «Я - робот».
9. Владислав Крапивин «Мальчик со шпагой», «В глубине Великого Кристалла», «Журавлёнок и молнии» и другие.
10. Лев Кассиль «Кондуит и Швамбрания».
11. Ф. Зальтен «Бэмби».
12. Дж. М. Барри «Питер Пэн и Венди», «Питер Пэн в Кенсингтонском Саду».
13. Детская библия.
14. Э. Сэтон-Томпсон «Рассказы о животных».
15. Дж. Крюс «Тим Талер или Проданный смех».
16. Р. Говард «Конан-варвар».
17. Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес», «Алиса а Зазеркалье».
18. О. Уальд «Звездный мальчик», «Кентервильское привидение».
19. Клайв С. Льюис «Хроники Нарнии», «Пока мы лиц не обрели».
20. Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера».
21. Дж. К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки».
22. Р. Л. Стивенсон «Черная стрела», «Остров сокровищ», «Клуб самоубийц», «Алмаз Раджи».
23. Ч. Диккенз «Приключения Оливера Твиста».
24. А. Конан Дойл «Затерянный мир», «Шерлок Холмс».
25. Агата Кристи «Убийство в доме викария», «Восточный экспресс», «Таинственное преступление в Стайлсе», «Убийство Роджера Экройда», "Десять негритят" и другие.
26. М. Метерлинк «Синяя Птица», «Ариана и синяя борода».
27. Г. Уэллс «Нашествие марсиан», «Машина времени», «Борьба миров», «Человек-невидимка».
28. Г. Троепольский «Белый Бим, Черное Ухо»
29. Фенимор Купер «Последний из могикан», "Следопыт".
30. Диана Дуэйн «Хочешь стать волшебником?», «Глубокое волшебство», «Высокое волшебство», «Безграничное волшебство».
31. Михаил Пришвин "Кладовая Солнца", "Кощеева цепь".
32. Джеральд Даррелл «Перегруженный ковчег», «Гончие Бафута», «Три билета до Эдвенчер», «Под пологом пьяного леса», «Зоопарк в моём багаже», «Поместье-зверинец», «Земля шорохов», «Путь кенгурёнка», «Поймайте мне колобуса», «По всему свету», «Моя семья и другие звери», «Птицы, звери и родственники», «Сад богов», «Только звери», «Пикник и прочие безобразия», «Золотые крыланы и розовые голуби», «Натуралист на мушке», «Ковчег на острове», «Филе из палтуса», «Звери в моей постели» (книга Джеки Даррелл, 1-й женой), «Рози - моя родственница», «Мясной рулет», «Новый Ной», «Юбилей ковчега», «Говорящий свёрток», «Ослокрады» («Похитители ослов»), «Ай-ай и я», «Звери в моей жизни», «Зоопарки», «Птица пересмешник».
33. Игорь Акимушкин «Мир Животных», «Млекопитающие или звери».
34. Джоан Роулинг «Гарри Поттер» («Гарри Поттер и волшебный камень», «Гарри Поттер и комната секретов», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и кубок огня», «Гарри Поттер и Принц Полукровка»).
35. Александра Бруштейн «Дорога уходит в даль...» (трилогия).
36. Валентина Осеева «Васек Трубачев и его товарищи».
37. Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес», «Песочный человек».
38. Василий Аксенов «Мой дедушка памятник».
39. Шейла Барнфорд «Невероятное путешествие».
40. О. Генри «Рассказы».
41. Г. Р. Хаггард «Дочь Монтесумы», «Копи царя Соломона», «Клеопатра».
42. И. А. Гончаров «Фрегат Паллада».
43. Т. Майн Рид «Всадник без головы», «Белый вождь», "Охотники за скальпами".
44. Роальд Даль «Чарли и шоколадная фабрика».
45. Энциклопедии детские: Гуманитарные: искусство, религии мира, театр, литература, мифология. Биолого-химические: химия, биология, физиология человека, география. Физико-математические: физика, математика. Социально-экономические: экономика, психология. Информационно-технологические: информатика. Лингвистические: русский язык. Исторические: всемирная история, отечественная история.
46. Книги по искусству (как писать акварелью и т.д.) и истории искусства (Ренессанс и т.д.). Альбомы с репродукциями картин.
47. Пол Гэллико «Беззвучное мяу», «Томасина», «Дженни».
48. Джеймс Хэрриот «О всех созданиях - больших и малых», «О всех созданиях - прекрасных и удивительных», «И все они - создания природы».
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
В 11-12 лет:
1. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», "Поиск предназначения, или двадцать седьмая теорема этики".
2. Жюль Верн «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», «Пятнадцатилетний капитан», «Вокруг света за 80 дней».
3. Мифы Древней Греции и Древнего Рима.
4. А. С. Грин «Алые паруса», «Золотая цепь».
5. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький Принц».
6. Р. Саббатини «Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана Блада».
7. Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа», «Отец Горио», «Евгения Гранде».
8. М. Гершензон «Баллады о Робин Гуде».
9. Леонид Соловьев «Повести о Ходже Нассреддине».
10. Дж. Р. Р. Толкиен «Властелин Колец» («Братство кольца», «Две твердыни», «Возвращение государя»), «Сильмариллион».
11. Эмилио Сальгари «На дальнем Западе», «Охотница за скальпами», «Город прокаженного царя».
12. В. Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард», «Роб Рой».
13. Г. Гаррисон «Неукротимая планета», «Фантастическая сага».
14. Джек Лондон «Сердца трех», «Белый клык», «Мартин Иден», «Лунная долина». Повести, Рассказы.
15. Э. Р. Бэрроуз «Тарзан», «Владыка Марса», «Принцесса Марса» и другое («Марсианские войны»).
16. Ю. Коваль «Недопесок», «Пять похищенных монахов».
17. А. Казанцев «Пылающий остров», «Сильнее времени».
18. Л. Пантелеев «Республика "Шкид"», «Пакет».
19. Д. В. Шульц «Моя жизнь среди индейцев», «Ошибка Одинокого Бизона».
20. Р. Янг «У начала времен», «Срубить дерево».
21. А. и С. Голон «Анжелика», «Путь в Версаль».
22. А. Дюма «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго», «Асканио» (собрание сочинений).
23. Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса» (В трёх книгах: «Венец», «Хозяйка», «Крест»).
24. Джейн Остен «Чувство и чувствительность», «Гордость и предубеждение».
25. Сэмюэль Ричардсон «Кларисса».
26. Лоренс Стерн «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».
27. Шодерло де Лакло «Опасные связи».
28. Джейн Остин «Эмма».
29. Натаниель Готорн «Алая буква».
30. Герман Мелвилл «Моби Дик».
31. Уилки Коллинз «Женщина в белом».
32. Джордж Элиот «Дэниэль Деронда».
33. Генри Джеймс «Женский портрет».
34. Ш. де Костер «Легенда о Тиле Уленшпигеле».
35. Вильгельм Гауфф «Сказки» («Караван» (Рассказ о калифе-аисте, Рассказ о корабле привидений, Рассказ об отрубленной руке, Спасение Фатьмы, Рассказ о Маленьком Муке, Сказка о мнимом принце), «Александрийский шейх Али-Бану и его невольники» (Карлик Нос, Молодой англичанин, История Альмансора), «Харчевня в Шпессарте» (Сказание о гульдене с изображением оленя, Холодное сердце (часть 1 и 2), Приключения Саида, Стинфольская пещера (Шотландское предание)).
36. Энн Маккефри «Всадники Перна» (серия включает в себя романы "Полет дракона", "Странствия дракона", "Белый дракон" и "Древний Перн", "Арфистка Менолли").
37. Жорж Санд «Консуэло», «Графиня Рудольштадт».
38. Урсула Ле Гуин «Волшебник Земноморья», «Гробницы Атуана», «На последнем берегу».
39. Терри Гудкайнд «Первое правило волшебника», «Второе правило волшебника», «Третье правило волшебника», «Четвертое правило волшебника», «Пятое правило волшебника», «Шестое правило волшебника», «Седьмое правило волшебника (часть 1 и 2)».
40. У. Маккалоу «Поющие в терновнике».
41. Р. Гюнтекин "Королек, птичка певчая".
42. Джеймс Хэриот "О всех созданиях, больших и малых", "О всех созданиях, прекрасных и удивительных".
43. Аркадий Фидлер «Белый Ягуар, вождь араваков», «Рыбы поют в Укаяли».
44. Нэнси Като «Все реки текут».
45. Марк Твен "Принц и нищий".
46. Роберт Джордан «Колесо времени».
47. Ян Гашек «Похождения бравого солдата Швейка».
48. А. Теннисон «Королевские идиллии».
49. Мартти Ларни «Четвёртый позвонок».
50. Поль де Крайф "Охотники за микробами", «Борьба со смертью», «Стоит ли им жить?», «Борцы с голодом», "Борьба за жизнь".
51. Оливер Сакс "Человек, который принял жену за шляпу", "Антрополог на Марсе".
1. Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», «Человек, который смеется».
2. Грибоедов А. С. «Горе от ума».
3. С. Лем «Звездные дневники Иона Тихого».
4. А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита».
5. Р. Шекли «Рассказы».
6. В. Шефнер «Дворец на троих», «Миллион в поте лица», «Имя для птицы».
7. Харпер Ли "Убить пересмешника".
8. Алан Маршалл Я умею прыгать через лужи, Шепот на ветру
9. Г. Матвеев Зеленые цепочки, Тайная схватка, Тарантул
10. Железников Чучело
11. Оскар Уальд «Портрет Дориана Грея».
12. Эдгар По «Рассказы».
13. А. С. Пушкин «Маленькие трагедии», «Евгений Онегин», Стихи (+критика Лотман + Набоков).
14. Г. К. Честертон «Тайна отца Брауна» и другие.
15. Амос Тутуола «Путешествие в город мертвых».
16. Курт Воннегут "Бойня номер пять", «Колыбель для кошки», «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер, или Не мечите бисера перед свиньями».
17. Р. Хайнлайн «Дверь в лето» и другие.
18. Р. Штильмарк «Наследник из Калькутты».
19. М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Демон», стихи («Свидание», «Ангел» (1831), «Парус» (1832), «Смерть поэта» (1837, опубл. за границей 1858, в России полностью - 1860), «Узник» (1837), «Дума» (1838), «Дары Терека» (1839), «Журналист, читатель и писатель» (1840), «Как часто, пестрою толпою окружен» (1840), «Прощай, немытая Россия» (1841, опубл. 1860), «Утес» (1841), «Выхожу один я на дорогу» (1841), «Пророк» (1841)).
20. Н.В. Гоголь "Вечера на хуторе близ Диканьки", «Вий», "Мертвые души", "Выбранные места из переписки с друзьями", "Ночь перед Рождеством", "Майская ночь, или Утопленница", "Заколдованное место", "Шинель", "Тарас Бульба", "Ревизор", "Страшная месть".
21. Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».
22. Т. Драйзер «Американская трагедия», «Сестра Керри», «Дженни Герхардт», «Финансист».
23. М. Митчелл «Унесённые ветром».
24. Шарлотта Бронте «Джейн Эйр».
25. Сидни Шелдон «Гнев ангелов», «Если наступит завтра», «Мельницы богов», "Расколотые сны" и другие романы.
26. Терри Пратчетт «Цвет волшебства», «Маскарад».
27. Роджер Желязны «Хроники Амбера» (1. Девять принцев Эмбера. 2. Ружья Авалона. 3. Знак Единорога. 4. Рука Оберона. 5. Двор Хаоса. 6. Знамения судьбы. 7. Кровь Эмбера. 8. Знак Хаоса. 9. Рыцарь отражения. 10. Принц Хаоса).
28. Войнич «Овод».
29. Морис Дрюон "Проклятые короли" (Железный король, Узница Шато-Гайара, Яд и корона, Негоже лилиям прясть, Французская волчица, Лилия и лев, Когда король губит Францию, Сильные мира сего).
30. Святослав Логинов "Земные пути", "Чёрный смерч", «Многорукий бог Далайна».
31. Н. Перумов "Кольцо Тьмы" (Эльфийский клинок, Черное копье, Адамант Хенны).
32. Луи Буссенар «Похитители бриллиантов», «Капитан Сорвиголова», «Герои Малахова кургана», «Десять тысяч лет среди льдов».
33. Вернер Гильде «Непотопляемый "Тиликум"».
34. Эдгар Уоллес «Вождь террористов», «Дверь с семью замками», «Тайна желтых нарциссов», «Похищенная картина», «Потерянный миллион», «Мститель».
35. Альфред Шклярский «Приключения Томека».
36. Николай Чуковский «Водители фрегатов».
37. В. Бахревский «Мальчик из поднебесья».
38. Георгий Березко «Ночь полководца».
39. П. Бляхин «Красные дьяволята».
40. В. Возовиков, В. Крохмалюк «Сиреневые ивы».
41. Александр Власов, Аркадий Млодик «Армия Трясогузки».
42. Евгений Коковин «Динь-Даг», «Детство в Соломбале», рассказы.
43. В. Король «Рядом с Панчитой».
44. Лев Куклин «Операция "снег"», «Заповедник», «Год лошади».
45. Евгений Кригер «Свет».
46. Александр Неверов «Ташкент - город хлебный».
47. Лев Никулин «Госпиталь танков».
48. Р. Брэдбери «Марсианские хроники», «Вельд», «Вино из одуванчиков», «451° по Фаренгейту». Рассказы.
49. Федор Тютерев «Необыкновенные приключения юных кубанцев».
50. Борис Раевский «Только вперед».
51. Лукьяненко "Мальчик и тьма", "Рыцари сорока островов", «Ночной дозор».
52. Антуан де Сент-Экзюпери «Планета людей», "Цитадель".
53. Стефан Цвейг «Письмо незнакомки», «Жгучая тайна», «Амок», «Вчерашний мир».
54. Патриция Рэде «Секрет для дракона», «Сделка с драконом».
55. Хербьёрг Вассму "Книга Дины", "Сын счастья", "Наследство Карны".
Добавлено спустя 51 секунду:
В 15-16 лет:
1. Дж. Д. Селлинжер «Над пропастью во ржи» и рассказы.
2. Франц Кафка «Замок», «Процесс».
3. Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом» («Полёт над гнездом кукушки»).
4. Венедикт Ерофеев «Москва-Петушки».
5. Хулио Кортасар "Выигрыши" (1960), "Игра в классики" (1963), "62. Модель для сборки" (1968), "Последний раунд" (1969), "Книга Мануэля" (1974).
6. Ф. М. Достоевский «Бедные люди», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание».
7. С. Лем «Футурологический конгресс», «Насморк», «Эдем» и другие.
8. Виктор Пелевин «Чапаев и пустота», «Омон Ра», "Жизнь насекомых", «Желтая стрела», «Поколение "П"» («Generation P»)и другие.
9. Татьяна Толстая «Кысь».
10. Улицкая Л. «Казус Кукоцкого», "Медея и её дети".
11. Борис Акунин «Азазель», «Турецкий гамбит».
12. Юрий Мамлеев «Шатуны», «Московский гамбит», «Утопи мою голову», «Вечный дом», "Шатуны".
13. Павел Крусанов «Ночь внутри», «Калевала. Карело-финский эпос», «Укус ангела».
14. Стругацкие «Пикник на обочине», «Улитка на склоне», «Трудно быть богом».
15. Дейл Карнеги «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как перестать беспокоиться и начать жить».
16. Гарсиа Маркес Г. «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Любовь во время чумы».
17. Лобсанг Рампа «Третий глаз» (1.Третий глаз. 2. Доктор из Лхасы. 3. История Рампы. 4. Пещеры древних. 5. Ты - вечен. 6. Мудрость древних. 7. Отшельник. 8. Шафранная мантия. 9. Главы из жизни. 10. Жизнь с Ламой. 11. Огонь свечи. 12. За пределами 1/10. 13. Поддержание огня. 14. Тридцатая свеча. 15. Сумерки. 16. Как это было. 17. Рампа на Венере. 18. Тибетский мудрец.).
18. Александра Давид-Нoэль "Мистики и маги Тибета".
19. Элизабет Хейч "Посвящение".
20. Марио Пьюзо «Крестный отец».
21. Э. М. Ремарк «На западном фронте без перемен», «Три товарища», «Триумфальная арка», «Черный обелиск» (собрание сочинений).
22. Л.Н. Толстой "Война и мир", «Анна Каренина» (воспоминания о Л. Н. Толстом - И. Л. Толстой «Мои воспоминания», дневники Софьи Андреевны Толстой).
23. М. Шолохов «Тихий Дон».
24. Б. Пастернак «Доктор Живаго», стихи.
25. М. Булгаков «Мастер и Маргарита», "Собачье сердце", "Белая гвардия", "Дни Турбиных", "Роковые яйца".
26. Мариэтта Чудакова "Жизнеописание Михаила Булгакова".
27. И. Бунин «Тёмные аллеи», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни».
28. В. Н. Муромцева «Жизнь Бунина», «Беседы с памятью».
29. Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», "Одноэтажная Америка".
30. Платонов А. «Котлован».
31. Замятин «Мы»
32. А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», "В круге первом", "Раковый корпус", "Архипелаг ГУЛАГ", "Двести лет вместе".
33. Голсуорси Дж. «Сага о Форсайтах»
34. Э. Хэмингуэй «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол».
35. Э. Золя «Жерминаль», «Чрево Парижа».
36. Шодерло де Ланкло «Опасные связи».
37. Ги де Мопассан «Милый друг», рассказы.
38. Г. Флобер «Госпожа Бовари».
39. Стендаль «Красное и чёрное», «Пармская обитель».
40. У. Теккерей «Ярмарка тщеславия».
41. Александр Мирер «Дом скитальцев».
42. М. Зощенко «Рассказы».
43. Стихи: О. Хайям, В. Шекспир, М. Басё, И. Крылов, Н. Некрасов, Ф. Тютчев, А. Фет, И. Северянин, С. Есенин, О. Мандельштам, Н. Гумилёв, М. Цветаева, В. Маяковский, Р. Рождественский, Булат Окуджава, Иосиф Бродский.
44. А. Ахматова «Вечер» (1912), «Чётки» (1914), «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921), «Anno Domini» (1922), «Бег времени». Воспоминания.
45. Э. Герштейн "Анна Ахматова и Лев Гумилев", мемуары.
46. Борис Носик «Анна и Амадео. История тайной любви Ахматовой и Модильяни, или Рисунок в интерьере».
47. А. Блок «Стихи» («Незнакомка» и другие).
48. М. А. Светлов «Стихи» («Гренада», "Песня о Каховке" и другие).
49. И.С. Тургенев
50. А.Н. Островский
51. А.П. Чехов
52. Н. Г. Чернышевский «Что делать?» (для разнообразия).
53. Куприн «Гранатовый браслет», «Суламифь».
54. Тэффи "Рассказы".
55. Оруэлл Дж. «1984».
56. Ю. Никитин «Трое из леса».
57. Невил Шют "На Берегу", «Крысолов».
58. Мария Семёнова «Волкодав», «Право на поединок», «Истовик-камень», «Знамение пути», «Самоцветные горы», «Валькирия».
59. В. Пикуль «Моонзунд», «Фаворит», «Реквием каравану PQ-17».
60. В. Войнович "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Сказки для взрослых", "Запах шоколада".
61. В. Шукшин «Рассказы».
62. Василь Быков, Поляков, Курочкин, Богомолов (о Великой Отечественной).
63. Обручев «Земля Санникова».
64. Уолт Уитмен «Стихи».
65. С. Моэм «Театр», "Бремя страстей человеческих".
66. А. Белый «Петербург».
67. З. Гиппиус «Живые лица», стихи.
68. Гончаров И. А. «Обломов», «Обыкновенная история».
69. Майкл Муркок «Пустые земли», "Ледовая шхуна, или Экспедиция в Нью-Йорк", "Хроники Корнелиуса", "Эльрик из Мелнибона".
70. Владимир Леви «Искусство быть собой», «Искусство быть другим», «Нестандартный ребенок», «Исповедь гипнотизера».
71. Гёте И. В. «Фауст».
72. Данте «Божественная комедия».
73. Гомер «Иллиада», «Одиссея».
74. Стивен Кинг «Кладбище домашних животных», «Зелёная миля» и другие романы.
75. У. Голдинг «Повелитель мух».
76. Алекс Гарленд «Пляж».
77. Стокер Б. «Дракула».
78. Фрэнк Херберт «Дюна».
79. Филип Хозе Фармер " Летающие киты Исмаэля ", "Гнев Рыжего Орка".
80. Харлан Эллисон «На пути к забвению».
81. М. Горький «Жизнь Клима Самгина».
82. Мольер Ж. Б. «Дон Жуан», «Смешные жеманницы», «Мещанин во дворянстве», «Мизантроп», «Тартюф», «Скупой».
83. Уинстон Грум «Форрест Гамп».
84. Джон Уиндем "День триффидов".
85. Юстейн Гордер «Апельсиновая девушка», «Мир Софи».
86. В. В. Набоков «Лолита», «Защита Лужина», «Машенька», «Дар», и другие.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
После 17 лет:
1. Г. Гессе «Степной волк», «Демиан», «Игра в бисер», «Сиддхартха».
2. Гюнтер Грасс «Под местным наркозом», «Жестяной барабан», «Собачья жизнь», «Из дневника улитки», «Рождение из головы».
3. Джон Ирвинг "Мир по Гарпу" («Мир глазами Гарпа»), "Правила Дома сидра", «Семейная жизнь весом в 158 фунтов», «Молитва об Оуэне Мини».
4. Марсель Пруст «В поисках утраченного времени».
5. Джеймс Джойс «Улисс».
6. Умберто Эко «Имя Розы», «Маятник Фуко».
7. Эрик Берн «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди», «Секс в человеческой жизни», «Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных».
8. Зигмунд Фрейд «Толкование сновидений», «Введение в психоанализ» (1910), «Психопатология обыденной жизни» (1904), «Я и Оно» (1923), «Тотем и табу», «Очерки по психологии сексуальности».
9. Фромм Э. «Искусство любить», «Иметь или быть», «Бегство от свободы».
10. Юнг Карл Густав «Психология бессознательного», «Психологические типы», «Человек и его символы», "Проблемы души нашего времени".
11. Виктор Франкл «Человек в поисках смысла».
12. Абрахам Гарольд Маслоу «Мотивация и личность».
13. М.Е. Литвак «Психологический вампиризм. Анатомия конфликта».
14. Фредерик Перлз «Внутри и вне помойного ведра. Радость. Печаль. Хаос. Мудрость».
15. Роберт Крукс, Карла Баур «Сексуальность».
16. Фридрих Ницше «Так говорил Заратустра».
17. Книги о мировых религиях: христианство, ислам, буддизм, индуизм, иудаизм и другие (например: Эррикер К. Буддизм; Бертронг Д. и Э. Конфуцианство; Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм; Вонг Е. Даосизм; Каниткар В.П. (Хемант) Индуизм; Максуд Р. Ислам; Оливер П. Мировые религиозные верования; Фёрштайн Г. Тантра; Эрнст К.В. Суфизм; Янг Д. Христианство).
18. Библия.
19. Коран. Талмуд. Ригведа. Авеста. Брахмапада. Произведения Конфуция. Дао дэ Дзинь. Вернадский (о ноосфере). Кант (о идеализме). Кендо. Бусидо. Бодхиттсатва. Махамудра. Каббала. Бхагават-Гита.
20. Патрик Зюскинд "Парфюмер", «Голубь», «История господина Зоммера».
21. Андре Жид "Яства земные", "Фальшивомонетчики", "Тесные врата".
22. Хорхе Луис Борхес «Сад расходящихся тропок», «Книга вымышленных существ» и другие рассказы. «Шесть загадок для дона Исидро Пароди», «Семь вечеров».
23. Карлос Кастанеда «Учение Дона Хуана из племени Яки», «Отдельная реальность», «Путешествие в Икстлан», «Сказки о силе», «Второе кольцо силы», «Дар Орла», «Огонь изнутри», «Сила безмолвия», «Искусство сновидения».
24. Тибетская книга мертвых - Бардо Тхедол
25. Генри Миллер «Тропик рака», «Тропик Козерога», «Чёрная весна» и др.
26. Энди Уорхол «Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот)».
27. Бернард Шоу "Дома вдовца", "Сердцеед", "Профессия миссис Уоррен", "Ученик Дьявола", "Оружие и человек", "Кандида", "Избранник судьбы", "Поживем - увидим", "Пигмалион", "Дом, где разбиваются сердца".
28. Альберт Камю "Чума", "Падение",«Посторонний».
29. Поль Верлен "Стихи" ("Морское", "Осенняя песня", "Тени деревьев, таясь за туманом седым...", "Небо над городом плачет...", "Тоска", "Устав страдать, я сник и смолк...", "Прекрасней и глуше...", "GREEN", "Гротески", "Поскольку брезжит день, поскольку вновь сиянье...").
30. Жан-Поль Сартр "Тошнота", "Слова", «Фрейд».
31. Артюр Рембо "Стихи".
32. Вирджиния Вулф «Комната Джейкоба», "Орландо", «К маяку», "Миссис Дэллоуэй".
33. Том Шарп «Дальний умысел», "Уилт", "Новый расклад в Покерхаусе".
34. Клиффорд Д. Саймак "Всё живое...", "Почти как люди", "Заповедник гоблинов", "Город", "Кольцо вокруг Солнца".
35. Амброз Бирс "Словарь дьявола", рассказы.
36. Кобо Абэ "Женщина в песках", "Рассказы" («Человек-ящик» и другие).
37. Олдос Хаксли «Желтый Кром», «Шутовской хоровод», "Двери восприятия", «Контрапункт», "О дивный новый мир" и другие.
38. Харуки Мураками "Трилогия Крысы" ("Слушай песню ветра", "Пинбол-1973", "Охота на овец"),"Дэнс-дэнс-дэнс", "Кафка на пляже".
39. Александр Митта «Кино между адом и раем».
40. Даниил Андреев "Роза мира".
41. Милан Кундера "Невыносимая легкость бытия", «Нарушенные завещания», «Бессмертие», «Неспешность / Подлинность», «Вальс на прощание».
42. Арсеньев В.К. «По Уссурийскому краю», "Дерсу Узала".
43. Рю Мураками «Все оттенки голубого», «69».
44. Пауло Коэльо "Алхимик", «Одиннадцать минут».
45. Юкио Мисима «Исповедь маски», «Золотой храм», «Жажда любви».
46. Энтони Бёрджесс «Заводной апельсин», «Долгий путь к чаепитию», «Железо, ржавое железо».
47. Макс Фриш «Назову себя Гантенбайн».
48. У. Фолкнер «Посёлок».
49. Т. Уайлдер «Мартовские иды».
50. Джон Стейнбек «Гроздья гнева», «Консервный ряд», «К востоку от Эдема» («На восток от Эдема»).
51. Ф.С.Фицджеральд «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», Рассказы.
52. Кнут Гамсун «Голод», «Соки земли».
53. Р. М. Рильке Стихи.
54. Франсуаза Саган «Здравствуй, грусть». "Рыбья кровь", «Любите ли вы Брамса?». «Немного солнца в холодной воде», «Поводок».
55. Айтматов Ч. «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Верблюжий глаз», «Первый учитель», «Материнское поле», «И дольше века длится день…», «Плаха», «Тавро Кассандры», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря».
56. Акутагава Рюноскэ (Рюноске) «Ад одиночества», «Табак и дьявол».
57. Апдайк Д. «Кролик, беги», «Кентавр», «Гертруда и Клавдий», «Давай поженимся».
58. Томас Стернс Элиот «Стихи».
59. Нил Гейман «Американские боги», «Коралина», «Дым и зеркала».
60. Аполлинер Г. «Стихи».
61. Апулей. «Метаморфозы, или Золотой осел».
62. Астуриас М. А. «Юный Владетель сокровищ», «Маисовые люди».
63. Бабель И. «Как это делалось в Одессе», «Конармия», рассказы.
64. В. Шаламов "Четвертая Вологда", Колымские рассказы. Стихи.
65. Барт Дж. «Плавучая опера».
66. Бах Р. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
67. Бёлль Г. «Дом без хозяина».
68. Битов А. «Уроки Армении», «Грузинский альбом», «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», «Оглашенные».
69. Блейк У. «Песни невинности и опыта» (Стихи).
70. Бовуар С. де. «Прелестные картинки».
71. Бодлер Ш. «Цветы зла».
72. Боккаччо Дж. «Декамерон».
73. Бомарше. «Севильский цирюльник». «Женитьба Фигаро».
74. Иэн Бэнкс «Воронья дорога», «Мост», «Осиная Фабрика», «Шаги по стеклу».
75. Борис Васильев «А зори здесь тихие…», "Картежник и бретер, игрок и дуэлянт", "Утоли моя печали...".
76. Виан Б. «Осень в Пекине», «У всех мертвых одинаковая кожа».
77. В. Высоцкий Стихи.
78. Гань Бао. «Записки о поисках духов».
79. И.А. Ефремов "Таис Афинская", «Лезвие бритвы», "На краю Ойкумены".
80. Ромен Гари «Обещание на заре»/«Обещание на рассвете», «Повинная голова».
81. Лесли Поулс Хартли «Смертельный номер» (рассказы).
82. Анри Барбюс «Нежность», "Огонь". Сборник новелл "Происшествия", "Правдивые истории".
83. Гарсиа Лорка Ф. «Песня хочет стать светом».
84. Гиляровский В. А. «Москва и москвичи».
85. Алексей Дидуров «Легенды и мифы Древнего Совка».
86. Дали С. «Дневник гения».
87. Аманда Лир «DALI глазами Аманды».
88. Джеймс Г. «Поворот винта».
89. Довлатов С. «Жизнь коротка», «Заповедник», «Зона: (Записки надзирателя)».
90. Домбровский Ю. «Факультет ненужных вещей».
91. Дю Морье Д. «Козел отпущения», «Ребекка», «Французова бухта», «Королевский генерал», «Моя кузина Рейчел».
92. Еврипид. «Медея». «Ипполит». «Вакханки».
93. Захер-Мазох Л. фон. «Венера в мехах».
94. Казандзакис Н. «Последнее искушение».
95. Капоте Т. «Завтрак у Тиффани».
96. Кейн Дж. «Бабочка», «Почтальон всегда звонит дважды», «Двойная страховка».
97. Конфуций. Суждения и беседы.
98. Лоуренс Д. Г. «Сыновья и любовники», «Радуга», «Влюбленные женщины», «Любовник леди Чаттерли».
99. Маккой Х. «В саване нет карманов», «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?».
100. Маркиз де Сад. «Жюстина, или Несчастья добродетели».
101. Мериме П. «Кармен», «Хроники времен Карла IX».
102. Роберт Музиль «Португалка», «Человек без свойств», «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса».
103. Олдингтон Р. «Смерть героя».
104. Олдридж Дж. «Последний дюйм».
105. Остин Дж. «Гордость и предубеждение», «Мэнсфилд-парк», «Эмма», «Нортенгерское аббатство».
106. Оэ К. «Футбол 1860 года», «Объяли меня воды до души моей», «Игры современников».
107. Ростан Э. «Сирано де Бержерак».
108. Спарк М. «Девушки со скромными средствами».
109. Уайлдер Т. «Мост короля Людовика Святого», «Каббала», «Мартовские иды», «День восьмой», «Теофил Норт», «Наш городок».
110. Уильямс Т. «Трамвай «Желание»». «Кошка на раскаленной крыше». «Ночь игуаны».
111. Унсет С. «Улав, сын Аудуна из Хествикена», «Улав, сын Аудуна, и его дети».
112. Фаулз Дж. «Коллекционер», «Волхв», «Башня из черного дерева», «Любовница французского лейтенанта» («Женщина французского лейтенанта»), «Дэниел Мартин», «Мантисса», «Червь», «Дерево».
113. Элли Р. «Последнее танго в Париже».
114. Роберт А. Хайнлайн "Луна жестко стелет".
115. Рокуэлл Кент «В диком краю» (1930), «Курс N by E» (1930), «Рокуэллкентиана» (1933), «Это мое собственное» (1940), «Рокуэлл Кент» (1946), «Это я, Господи!» (1955), «О людях и горах» (1959).
116. Даниэль Пеннак «Фея карабина», «Маленькая торговка прозой», «Людоедское счастье», «Господин Малоссен», «Плоды страсти».
117. Михаил Веллер "Роман воспитания", "Приключения майора Звягина", "Легенды Невского проспекта", "Самовар", "Все о жизни", "А вот те шиш!" и другие.
118. Василий Аксенов «Остров Крым», «Московская сага», "Негатив положительного героя".
119. Анатолий Рыбаков «Дети Арбата».
120. Вячеслав Рыбаков "Очаг на башне", "Трудно стать богом".
121. Томас Бернхард "Стужа".
122. Лео Таксиль "Забавная Библия".
123. Артуро Перес-Реверте "Клуб Дюма, или Тень Ришелье", «Фламандская доска», "Учитель фехтования", «Приключения капитана Алатристе» («Капитан Алатристе», «Чистая кровь», «Испанская ярость») и другие.
124. Аллен Курцвейл «Часы зла».
125. С. Витицкий "Поиск предназначенья".
126. Чак Паланик "Колыбельная", «Бойцовский клуб», «Уцелевший».
127. Чарльз Буковски "Почтовое отделение".
128. Альфред Бестер «Человек Без Лица», «Тигр! Тигр!».
129. Милорад Павич «Внутренняя сторона ветра», "Хазарский словарь".
130. Артур Хейли "Отель", "Окончательный диагноз".
131. Г. Газданов "Вечер у Клер", "Ночные дороги".
132. Томас Манн «Будденброки», "Иосиф и его братья", "Волшебная гора".
133. Евгения Гинзбург "Крутой маршрут".
134. Д. Кьюсак "Жаркое лето в Берлине".
135. Михаил Успенский «Трилогия о Жихаре».
136. Дэн Браун «Код да Винчи».
137. Кокс С. «Взламывая код да Винчи: Путеводитель по лабиринтам тайн Дэна Брауна».
138. Кадзуо Исигуро "Остаток дня".
139. Антонио Табукки "Утверждает Перейра".
140. Реймон Кено "С ними по-хорошему нельзя", "Интимный дневник Салли Мара".
141. Тибор Фишер «Коллекционная вещь».
142. Эдгар Л. Доктороу «Рэгтайм», «Билли Батгейт».
143. Шеймас Дин «Чтение в темноте».
144. Алессандро Барикко «Море океан», «Шелк», "City".
145. Жак Шессе "Людоед"/"Огр".
146. Малькольм Брэдбери «Профессор Криминале».
147. Томас Пинчон «Copyright notice», «В.», «Когда объявят лот 49»/"Выкрикивается лот 49", «Энтропия», "V".
148. Уильям Гибсон «Нейромантик», «Граф Ноль», «Мона Лиза Овердрайв», «Виртуальный свет».
149. Филип Рот «Людское клеймо», "Болезнь портного".
150. Питер Акройд «Процесс Элизабет Кри», «Дом доктора Ди», «Повесть о Платоне».
151. Марек Хласко «Красивые, двадцатилетние».
152. Алан Александр Милн «Двое».
153. Мартин Сутер «Small World».
154. Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник».
155. Т. Корагессан Бойл «Восток есть восток».
156. Аласдер Грей «Бедные-несчастные».
157. Майкл Каннингем «Дом на краю света», «Часы».
158. Бруно Шульц «Коричные лавки», «Санатория по Клепсидрой».
159. Ник Кейв «И узре ослица Ангела Божия».
160. Богумил Грабал «Я обслуживал английского короля».
161. Кормарк Маккарти «Кони, кони...».
162. Кристофер Т. Бакли «Здесь курят».
163. Том Вулф «Костры амбиций (книга 1, книга 2)».
164. Джон М. Кутзее «Осень в Петербурге», «Бесчестье».
165. Джулиан Барнс «История мира в 10 1/2 главах», «Англия, Англия».
166. Берил Бейнбридж «Мастер Джорджи».
167. Гонсало Торренте Бальестер «Дон Хуан».
168. Пер Улов Энквист «Пятая зима магнетизера/ Низверженный ангел».
169. Хуан Марсе «Двуликий любовник».
170. Алан Ислер «Принц Вест-Эндский».
171. Уильям Кеннеди «Железный бурьян».
172. Ивлин Во «Возвращение в Брайдсхед», «Мерзкая плоть», «Офицеры и джентельмены».
173. Джозеф Хеллер «Видит Бог».
174. Том Стоппард «Травести».
175. Пол Теру «Моя другая жизнь», «Коулун Тонг».
176. Хорхе Семпрун «Нечаев вернулся».
177. Дэвид Лодж «Райские новости», «Терапия».
178. Ричард Бротиган «Ловля форели в Америке», «Месть лужайки».
179. Исаак Башевис Зингер «Люблинский штукарь».
180. Тим О'Брайен «На лесном озере».
181. Гилберт Адэр «Любовь и смерть на Лонг-Айленде», «Мечтатели».
182. Грэм Грин «Конец одного романа», "Путешествия с моей тетушкой", "Наш человек в Гаване".
183. Вуди Ален «Шутки Господа».
184. Корнель Филиппович «День накануне».
185. Ричард Хьюз «В опасности».
186. Хартмут Ланге «Концерт», «Путешествие в Триест».
187. Михал Вивег «Лучшие годы - псу под хвост», «Летописцы отцовской любви».
188. Абель Поссе «Долгие сумерки путника».
189. Мишель Уэльбек «Расширение пространства борьбы», «Лансароте», «Платформа», «Элементарные частицы».
190. Мануэль Пуиг «Поцелуй женщины-паука».
191. Кэндзи Маруяма «Сердцебиение».
192. Патрик Модиано «Маленькое чудо».
193. Дзюнъитиро Танидзаки «Ключ».
194. Бедрос Хорасанджан. Рассказы.
195. Славомир Мрожек «Мои возлюбленные кривоножки».
196. Мишель Турнье «Пятница».
197. Эрленд Лу «Наивно. Супер», «Во власти женщины», «Лучшая страна в мире».
198. Агота Кристоф «Толстая тетрадь».
199. Лаура Эскивель «Шоколад на крутом кипятке».
200. Айрис Мёрдок «Сон Бруно», "Черный принц", "Святая и греховная машина любви", "Честный проигрыш", «Море, море».
201. Дональд Бартельми "Шестьдесят рассказов".
202. Витольд Гомбрович «Порнография», «Космос».
203. Дэ Сижи «Бальзак и портниха китаяночка».
204. Лев Шестов «Апофеоз беспочвенности».
205. Петер Хандке «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым».
206. Адольфо Биой Касарес «Ненависть любви».
207. Роальд Даль «Дегустация».
208. Николай Фробениус «Застенчивый порнограф».
209. Леон Юрис «Исход (Exodus)».
210. Анатолий Найман «Сэр».
211. Йозеф Рот «Иов».
212. Норман Мейлер «Американская мечта».
213. Алан Лайтман "Сны Эйнштейна", "Друг Бенито".
214. Джозеф Конрад "Сердце тьмы и другие повести".
215. Ален Роб - Грийе "Проект революции в Нью - Йорке".
216. Филип Дик "Око небесное".
217. Альдо Новее "Супервубинда".
218. Иэн Макьюен "Stop-кадр".
219. Джонатан Свифт "Письма".
220. Эльфрида Елинек «Пианистка», «Любовницы».
221. Эрик Маккормак «Летучий голландец».
222. Рубен Давид Гонсалес Гальего "Белое на черном" («Черным по белому»), «Я сижу на берегу».
223. Чарльз Маклин «Страж».
224. Торнтон Уайдлер «Мост короля Людовика Святого», "День восьмой".
225. Джон Бойнтон Пристли «Дженни Вильерс».
226. Кристофер Мур «Агнец. Евангелие от Шмяка, друга детства Иисуса Христа», "Практическое демоноводство", "Ящер страсти из Бухты грусти".
227. Мигель Отеро Сильва «Когда хочется плакать, не плачу», «Пятеро, которые молчали».
228. Антония Байетт "Обладать".
229. Валентин Катаев «Алмазный мой венец», «Трава забвения», "Святой колодец", «Уже написан Вертер».
230. Борис Можаев «Живой».
231. Михаил Кураев «Зеркало Монтачки».
232. Сергей Сартаков «Философский камень».
233. Василий Гроссман «Жизнь и судьба», «Всё течёт».
234. Петро Григоренко "В подполье можно встретить, только крыс…".
235. Тамара Петкевич "Верность себе".
236. Григорий Померанц «Записки гадкого утенка».
237. В. Каверин «Эпилог».
238. Стефан Хейм «Крестоносцы».
239. Дэвис Робертсон «Степфордская трилогия» ("Пятый персонаж", "Мантикора", "Мир чудес").
240. Стивен Фрай «Как творить историю», «Гиппопотам», «Лжец», "Теннисные мячики небес".
241. Пелем Гринвилл Вудхаус (Вудхауз) «Несокрушимый Арчи», «Сэм Стремительный», «Мир мистера Муллинера», «Псмит-журналист», «Перелётные свиньи».
242. Огден Нэш «Стихи».
243. Роберт Пенн Уоррен "Вся королевская рать", "Место, куда я вернусь".
244. Дмитрий Липскеров "Сорок лет Чанчжоэ".
245. Р. Шеридан «Школа злословия».
246. Росс Кинг «Экслибрис», «Домино».
247. Амирэджиби Ч. "Гора Мборгали".
248. Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом».
249. Джин Н. "Учитель".
250. Амаду Ж. "Исчезновение святой", «Генералы песчаных карьеров».
251. Апдайк Дж. "Иствикские ведьмы", "Бразилия".
252. Арагон Л. "Гибель всерьёз".
253. Беллоу С. "Лови момент" (сборник).
254. Ларни М. "Хоровод нищих".
255. Модиано П. "Утраченный мир".
256. Сарамаго Ж. "Евангелие от Иисуса".
257. Юнсон Э. "Прибой и берега".
258. Петр Алешковский «Владимир Чигринцев», "Седьмой чемоданчик".
259. Сергей Бабаян "Моя вина".
260. Андрей Битов "Неизбежность ненаписанного".
261. Володарский Э. "Дневник самоубийцы".
262. Дежнев Н. "В концертном исполнении" .
263. Фазиль Искандер "Созвездия Козлотура" (1966), "Софичка", цикл новелл "Сандро из Чегема" (1973), "Кролики и удавы".
264. Кабаков А. "Самозванец", "Последний герой".
265. Коваль Ю. "Суер-Выер".
266. Маканин В. "Андеграунд, или Герой нашего времени".
267. Медведева Н. "А у них была страсть".
268. Найман А. "Славный конец бесславных поколений".
269. Петрушевская Л. "Настоящие сказки"
270. Пьецух В. "Государственное дитя"
271. Ратушинская И. "Одесситы"
272. Харитонов М. "Возвращение ниоткуда"
273. Щербакова Г. "Год Алёны"
274. Ямпольский Б. "Арбат, режимная улица"
275. А. Флэгг "Жареные зеленые помидоры"
276. Дина Рубина "Под знаком карнавала"
277. Катарина Масетти «Парень с соседней могилы».
278. Розамунда Пилчер «Семейная реликвия» («Искатели раковин»), «Сентябрь», «В канун Рождества», «Возвращение домой», "Начать сначала. Штормовой день".
279. Нина Боуден «Знакомые страсти».
280. Наталья Нестерова "Бабушка на сносях", «Позвони в мою дверь», «Школа для толстушек».
281. Арина Холина «Увидимся в аду».
282. Лорен Вайсбергер «Дьявол носит "Прада"».
283. Кэндес Бушнелл «Секс в большом городе».
284. Рубинов А.З. «Интимная жизнь Москвы».
285. Андреевский Г. "Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху".
286. Оксана Робски «Casual», «День счастья - завтра».
287. Елена Трегубова «Байки кремлёвского диггера», «Прощание кремлёвского диггера».
288. И. Хмелевская «Что сказал покойник», «Всё красное».
289. Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» (1 и 2 часть).
290. Владимир Cорокин «Голубое сало», «Норма», «Лёд», «Тридцатая любовь Марины», рассказы.
291. Эрве Базен "Супружеская жизнь", "Анатомия развода", «Семья Резо».
292. Эдуард Лимонов «Это я, Эдичка», "316, пункт "В".
293. Валерия Пришвина (Валерия Лиорко-Пришвина) «Невидимый град».
294. Алиса Коонен "Страницы жизни"
295. Корней Чуковский "Дневники"
296. Мария Башкирцева "Дневник"
297. Мария Белкина "Скрещение судеб" (о Цветаевой и ее детях)
298. Анастасия Цветаева "Воспоминания".
299. Татьяна Кузминская "Моя жизнь дома и в Ясной поляне"
300. Иван Бунин, Вера Бунина "Устами Буниных"
301. Лиля Брик "Пристрастные рассказы"
302. Дневники императрицы Марии Федоровны
303. Дневник Анны Франк
304. Григорий Эфрон "Дневники"
305. Зинаида Гиппиус "Дневники", "Живые лица"
306. Сомерсет Моэм "Записные книжки"
307. Айседора Дункан "Исповедь"
308. Галина Кузьменко. Дневники.
309. Лещенко-Сухомлина Т.И. «Долгое будущее».
310. Александр Шульгин "Фенэтиламины, которые я знал и любил"
311. Ричард Фейнман "вы конечно шутите, мистер Фейнман"
312. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками.
313. Последний год жизни Пушкина.
314. Дмитрий Быков «Оправдание», «Орфография», «Эвакуатор».
315. Катажина Грохоля «Никогда в жизни!», «Сердце в гипсе».
316. К. Ландау-Дробанцева "Академик Ландау. Как мы жили" (мемуары).
317. Галина Вишневская «Галина» (мемуары).
318. Марина Влади «Владимир, или прерванный полёт».
319. Н.Мандельштам «Воспоминания», "Старые друзья".
320. Илья Эренбург «Воспоминания».
321. Нина Молева «Баланс столетия».
322. Кончаловская Н. «Волшебство и трудолюбие».
323. Василий В. Катанян «Лиля Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины» (второе издание, дополненное и исправленное).
324. Алексей Щеглов «Раневская. Фрагменты жизни».
325. Мария Арбатова «Мне сорок лет», «Меня зовут женщина», «Мобильные связи».
326. Л. Я. Гинзбург «Записные книжки».
327. Кристина Барош "Маленькие радости Элоизы".
328. Мейв Бинчи "Уроки итальянского".
329. Хербьёрг Вассму "Седьмая встреча".
330. Фрида Вигдорова "Семейное счастье. Любимая улица".
331. Джудит Леннокс "Следы на песке".
332. Сьюзен Ховач "Наследство Пенмаров".
333. Анри Труайя "Семья Эглетьер", «Голод львят» (2-я часть "Семьи Эглетьер"), «Крушение» (3-я часть "Семьи Эглетьер").
334. Ингрид Нолль "Прохладой дышит вечер"
335. Эндрю Норман Уилсон "Любовь в отсутствие любви"
336. Ноэль Шатле "Трилогия "Дама в синем", "Бабушка - маков цвет", "Девочки и подсолнухи"".
337. Тонино Бенаквиста «Сага», «Сериал».
338. Чарльз Сноу "Наставники".
339. Ясунари Кавабата «Мэйдзин», «Снежная страна», «Отраженная луна», «Спящие красавицы».
340. Сей Сенагон «Записки у изголовья».
341. Сантлоуфер Д. «Живописец смерти».
342. Хилл Т. «Любовь к камням».
343. Орлов В. В. «Альтист Данилов», «Аптекарь».
344. Тони Парсонс «Мужчина и мальчик = Man and boy», «Муж и жена = Man and Wife».
345. Кэтрин Нэвилл «Восемь».
346. Бернард Вербер «Империя ангелов», «Мы, боги».
347. Фредерик Бегбедер «99 франков», «Любовь живет три года», «Каникулы в коме».
348. Элизабет Костова «Историк».
349. Бенджамен Хофф «Дао Винни-Пуха».
350. Федерико Андахази «Милосердные», "Анатом".
351. А. Голден «Мемуары гейши».
352. Нагаи Кафу «Соперницы».
353. Янвиллем ван де Ветеринг «Пустое зеркало».
354. Георгий Данелия "Безбилетный пассажир", "Тостуемый пьет до дна".
355. Андре Моруа "Превратности любви", "Рождение знаменитости".
356. Де Сижи "Бальзак и портниха-китаяночка".
357. Ш. Э. Грау "Стерегущие дом", "Кондор улетел".
358. Липскеров Д. «Осени не будет никогда».
359. Фрэнк МакКоурт "Пепел Анжелы".
360. Арундати Рой «Бог мелочей».
361. Питер Хег (Хёг) «Смилла и её чувство снега», «Ночные рассказы».
362. Макс Фрай «Хроники Ехо», «Энциклопедия мифов», «Лабиринты Ехо».
363. Пётр Вайль «Гений места».
364. Минаев С. «ДУХLESS: Повесть о ненастоящем человеке».
365. Анатолий Тосс «Американская история» («Американская трагедия»), «Фантазии женщины средних лет».
366. Евгений Гришковец «Рубашка», «Реки».
367. Анна Говальд «Мне бы хотелось, чтоб меня кто-нибудь где-нибудь ждал», «Просто вместе», «Он её любил. Она его любила».
368. Л. Енгибаров "Клоун с Осенью в Сердце",
369. Эрленд Лу "У",
370. Майкл Каннингем "Дом на краю света".
371. Кен Фоллетт «Столпы Земли».
372. Филипп Эриа «Семья Буссардель».

В. Перов. Возвращение крестьян с похорон зимою
Очень
часто отсутствие понимания смысла православных обрядов и традиций
приводит к тому, что люди, вместо того, чтобы помогать душе умершего
близкого, начинают верить во всякие суеверия и соблюдать обычаи,
которые не имеют никакого отношения к христианству. В этой статье мы
расскажем вам о том, как следует хоронить человека в соответствии с
православными традициями
После крещения Руси и принятия православия, обряд похорон изменился.
Кое-где в русских деревнях (особенно северных) возник обычай самому
изготавливать себе гроб, подобно тому, как это делали некоторые святые.
В
русской крестьянской семье умершего при любых обстоятельствах обмывали,
переодевали в чистую, иногда весьма дорогую одежду. Клали покойника на
лавку, головой в красный угол (в красном углу находились иконы),
укрывали белым холстом (саваном), руки складывали на груди, давая в
правую белый платочек. Похороны совершались на третий день, особо чтимых
умерших несли на руках до самого кладбища. Все это сопровождалось
плачами и причитаниями…
Смерть глубокого старика не считалась
горем, причеты и плачи в этом случае носили скорее формальный характер.
Нанятая плачея могла моментально преобразиться, перебить плач
каким-нибудь обыденным замечанием и завопить вновь. Другое дело, когда
причитают близкие родственницы или когда смерть случалась
преждевременно. Здесь традиционная форма принимала личную,
эмоциональную, иногда глубоко трагическую окраску.
После крещения
Руси покойников стали хоронить головой на запад. Общее христианское
правило класть мертвых головой на запад напрямую связано с преданием о
том, что тело Христа было похоронено головой на запад и, следовательно,
лицом на восток. В одном духовном сочинении XIV века об этом говориться
говорится так: «Всякий должен быть погребен так, чтобы голова его была
обращена к западу, а ноги направлены к востоку. Он при этом как бы самим
своим положением молится и выражает, что он готов спешить от запада к
востоку, от заката к восходу, от мира в вечность».
Похороны всегда
заканчивались поминками, или тризной, для чего готовились специальные
поминальные кушанья. Еще на кладбище покойника поминали кутьей — круто
сваренным рисом, в который добавлен изюм. Среди обязательных кушаний на
русских поминках — блины.
Все ночи после смерти и до похорон
специально нанятая чтица читала Псалтырь и заупокойные молитвы. Вместе с
нею в комнате, где находился умерший, бодрствовали местные старики и
старухи. После похорон чтице дарили полотенце, на котором лежал
Псалтырь.После похорон, устоялся обычай отмечать девятый и сороковой
день (сороковины) после смерти.
У славян существовал ритуал
специальной погребальной одежды. У восточнославянских пародов был обычай
хоронить в той же одежде, в которой человек венчался, а если умирала
молодая незамужняя девушка или холостой парень, то покойника наряжали,
как на свадьбу. На Украине девушку клали в гроб с распущенными волосами,
с венком из позолоченного барвинка на голове, украшали гроб цветами,
ставили две венчальные свечи. У гуцулов один венок надевали на голову, а
другой, побольше, из барвинка, васильков, гвоздики, клали вокруг тела.
Подруги
(дружки) имитировали при этом свадебный обряд — выбирали старост,
сваху, бояр. Старост и подстарост подвязывали рушниками, свахе вручали
свечу и меч. Девушки-дружки подвязывали головы черными ленточками.
Одного юношу выбирали на роль «вдовца». На палец девушке одевали
перстень из воска, предварительно позолотив его. Ко дню похорон выпекали
свадебный каравай, его клали на крышку гроба, а на кладбище раздавали
родным.
Умершего ребенка у восточных славян, как правило,
подпоясывали. Этот обычай связан с наивным религиозным представлением о
том, что Бог на «Спаса» будет раздавать детям яблоки, и надо, чтобы
ребенок мог спрятать яблоко за пазуху.

О здравии поминают имеющих христианские имена, а о упокоении - только крещенных в Православной Церкви.
На литургии можно подать записки:На - первую часть литургии, когда за каждое имя, указанное в записке, из особых просфор вынимаются частицы, которые впоследствии опускаются в Кровь Христову с молитвой о прощении грехов
В истории славянской погребальной обрядности археология
выделяет ряд переломных этапов, обусловленных крупными переменами в
осознании человеком окружающего, мира, в воззрениях на судьбу
умершего. Ранняя форма погребений древних славян - погребение трупа в
скрюченном виде, то есть положении зародыша - связана с идеей и
реинкарнации, перевоплощения умершего, его второго рождения на земле,
перехода его жизненной силы (души) в одно из живых существ
На
рубеже бронзового и железного веков возникает способ погребения умерших
уже в распрямленном виде, а затем и кремация - сожжение трупа на
погребальном костре. Этот ритуал также был связан с представлением о
неистребимости жизненной сипы. Новым было представление о
местожительстве невидимых душ - небе, куда души попадали с дымом
погребального костра. Обе формы погребального обряда постоянно
сосуществовали, хотя в разное время и разном соотношении. Прах
сожженного покойника хоронили и земле, помещая его в урны-горшки или
просто в ямы. Первоначально над каждой могилой строилось
надмогильное сооружение в форме жилого дома - домовина, «столыть».
Именно отсюда берет начало встречающийся до сих пор кое-где обычай (в
частности - у старообрядцев) делать над могильным крестом навершие,
похожее на двускатную крышу. Оно имеет не только утилитарное
назначение предохранить крест от дождя и снега, но является и
символом русской избы - дома для умершего.
Кладбище в несколько
сотен домовин у древних славян представляло собой «город мертвых»,
место поклонения предкам рода. Культ предков раздваивался: одни
магические действий были связаны с представлениями о невидимых и
неосязаемых предках, витающих в небесном пространстве, другие -
привязаны к кладбищу, месту захоронения праха, единственному месту
на земле, реально связанному с умершим.
По вероучению Православной Церкви, назначение погребального обряда -
облегчить душе умершего путь в Царство Небесное, отогнать от него
«нечистую силу», замолить его грехи перед Богом. Однако христианскому
истолкованию смерти как блага, вестницы покоя и радости всегда
противостояло народное представление о ней как о враждебной силе,
роковом неизбежном зле. Глубинные психологические корни осмысления
смерти как трагедии обусловлены трагизмом самого события -
невосполнимой утратой близкого человека, уходя его в небытие.
Явление смерти во все времена потрясало чувства и воображение людей,
заставляло еще раз обратиться к вопросу о цепи и смысле жизни,
назначении человека на земле, нравственном долге перед умершими и
живыми.
Вопрос о причинах смерти - важнейший вопрос, приковывающий
неослабевающий интерес людей. Человеку свойственно стремление узнать
свою судьбу, приоткрыть завесу будущего.
Тема смерти воплощена в
целом цикле народных примет, гаданий, предсказаний, фатальных
знамений. Их направленность - узнать причины и сущность смерти,
освободиться от страха перед ней, определить судьбу человека с тем,
чтобы подготовиться к ней, активизировать в борьбе с ней свои
действия. Во всех приметах заложена попытка понять и объяснить
причинно-следственные связи окружающего мира, предугадать будущее.
Негативные приметы и гадания, то есть такие, которые предвещали смерть,
неблагополучие, грядущее несчастье, сопровождали в прошлом всю
жизнь человека: рождение, возмужание, вступление в брак, появление
детей в семье, болезни, уход из жизни, похороны умерших. Их объектом
был прежде всего сам человек, состояние его здоровья, личная
жизнь, дом, бытовой уклад, природная среда. Главная тема этих примет -
определение жизнестойкости, длительности жизни, счастливой или
неудачной судьбы человека.
Так, при рождении ребенка уже загадывали,
выживет ли младенец после рождения, будет ли вообще жить. Приметы
свадебно-венчального цикла отмеряли молодоженам отрезок жизненного
пути, который они проживут после свадьбы, загадывали, кто из молодых
будет жить дольше, кто раньше умрет; приметы во время болезни -
выздоровеет ли больной или нет. Особая группа примет связана с
состоянием больного перед смертью и самими похоронами. Наступление
смертного часа узнавалось по целому ряду распространенных примет:
запаху тела больного («землей пахнет»), появлению на нем темных
пятен, изменению цвета металлического креста, опущенного а воду,
которую пил больной, и т. д. Приметы либо предугадывали смерть, либо
направлялись на ее предотвращение: если в доме в короткое время умерло
двое, то нужно ждать новой смерти; если кто-то умер с открытыми
глазами, то «высматривает» очередную жертву. В гаданиях и приметах
приобретали функции магического символа смерти некоторые предметы
(нож, игла, булавка, а также пояс, веник и некоторые другие), что,
видимо, объясняется возможностью применения как смертоносного орудия
или символического выметания человека из дома. «Найденную иглу, булавку
и вообще все острое не поднимать - постигнет несчастье».
Широкое распространение имело истолкование «вещих снов», некоторые из
них означали смерть в доме; выпадение зуба, особенно с кровью,
означало смерть кровного родственника (по аналогии, ряд зубов -
семья, один зуб - член родственной группы); увидеть во сне яйца - к
покойнику.
Тема личной жизни и судьбы в гаданиях о смерти неразрывно
связана с темой жизни окружающей природы, растительного и животного
мира. В предсказаниях смерти широко использовалась традиционная
символика древнего животного эпоса, носящего отзвуки тотемических
верований. Это образы животных и птиц - или чудесных помощников
человека, или пророков несчастья. Символом смерти всегда являются
хищные птицы, предвестники смерти: ворон, ястреб, филин, сова,
имеющие зловещую силу. Они прилетают и садятся на дом, как бы
предчувствуя свою добычу - мертвечину: «Ворон каркает - к
покойнику».
И в наши дни главный символ смерти по-прежнему
воплощен в птице: это воробей, курица, цыпленок и др. Птица стучит в
окно, садится на плечо человека, залетает в дом - все это знамения
грядущей смерти. Широко известно гадание - счет продолжительности
жизни по кукованию кукушки. В образах добрых желанных птиц - ласточки,
голубя, а также крылатого насекомого - мотылька, бабочки -
олицетворялась душа умершего. Их прилет в дом рассматривался как
посещение души умершего или прилет за душой человека посланников
Божьих. То есть в любом случае это предвещает новую смерть. Чуткими
предвестниками смерти являлись и являются домашние животные - собака,
кошка, лошадь, корова, куры. Верным признаком смерти члена семьи
считался вой собаки и рытье ею ямы.
В русских гаданиях и
приметах отражена тема «строительной жертвы» - смерти человека во
вновь отстроенном доме. Поэтому в новый дом обычно первым входил
старик, так как молодым членом семьи больше дорожили, чем доживающим
свой век. А чтобы не человек, а животное оказалось первой жертвой
смерти, в новый дом на ночь запирали петуха или кошку. И сейчас
многие стараются при въезде в новую квартиру первой запустить туда
кошку, не догадываясь, что это отголосок древней предохранительной
приметы.
До сих пор широко известно поверье о разбитом зеркале:
зеркало - отражение души, двойник человека; разбитое зеркало -
расколовшаяся жизнь. С этим же связан народный обычай завешивать в
доме зеркала, когда кто-нибудь из домашних умирает.
На близкую смерть человека указывал всегда также комнатный цветок, который никогда не цвел, а вдруг неожиданно расцвел.
Влияние природных стихий также не осталось вне поля зрения народных
примет о смерти. Общеизвестно символическое значение падения с неба
звезды, означающее закат жизни человека. Завывание ветра, вой бури
пророчили смерть: считалось, что вовремя бури покойники воют, так как
они недовольны живыми людьми и требуют от них жертвы.
И,
наконец, весьма распространенная примета, имеющая очень древние корни, -
увидеть во сне уже умершего человека, который зовет к себе, - тоже
к смерти.
Суеверия, связанные со смертью, вряд ли можно считать
только исчезающими пережитками древних верований. Имеются данные,
говорящие о том, что эти верования не только трансформируются, но и
возрождаются в новых условиях, в реальной действительности находят
почву для дальнейшего существования. Каждый конкретный случай, отдельные
бытовые подробности жизни, на которые в обычное время никто не
обращал внимания, при трагическом стечении обстоятельств задним
числом приобретают символику знамения. Если человек умер, то
вспоминают какое-либо необычное событие, природное явление, потерю
(во сне или наяву), предшествующие смерти: «Недаром цветок не вовремя
расцвел», «Недаром кура петухом кричала» и т. п.
Прекращение
земного существования, непредставимость загробного существование
всегда пугают человека. В народных обычаях отразились попытки предков
истолкования необъяснимости природы смерти, скажем, происками
колдунов. Естественное чувство самосохранения приводило к поискам
средств противодействия смерти, что с особой силой проявлялось в
момент ее приближения. Отсюда обычай закрывать сразу же после смерти
окна, двери, то же зеркало (как особенное магическое средство
проникновения), чтобы злые чары не вошли в дом, не подействовали на
живых.
Отпечаток христианских идей несут представления о «хорошей» и
«нехорошей», «трудной» и «легкой» смерти. Желательной
представлялась в прошлом и настоящем смерть в кругу родных и близких
без продолжительной и мучительной болезни. Как долг первой
необходимости рассматривалось присутствие в момент смерти у постели
больного близких родственников. Это было связано, во-первых, с
желанием получить благословение умирающего на дальнейшую жизнь,
во-вторых, с необходимостью принять меры для облегчения его
предсмертных мучений и помочь его душе в поисках пути в загробный
мир. По народным поверьям, при последнем вздохе человека - испускании
духа - душа расстается с телом и происходит борьба за душу между
«нечистой» силой и ангелом, посланным Богом за душой умирающего.
Предсмертные страдания объяснялись не тяжестью болезни, а тем, что
умирающего в последний минуты мучает «нечистая» сила (черт, дьявол),
она будто бы не отдает душу ангелу. Стараясь облегчить душе путь к
Богу, вкладывали в руку умирающему «Богову» свечу, кадили вокруг
него ладаном.
Хорошей считалась смерть на Пасху, в день Христова
Воскресения, когда, по поверьям, открыты «райские двери» по аналогии с
царскими вратами в храме. Легкая смерть расценивалась в народе как
награда за благочестивую жизнь, трудная – как удел грешников.

Неусыпаемая Псалтирь читается не только о здравии, но и о упокоении. Издревле заказывание поминания на Неусыпаеом Псалтири считается великой милостынью за усопшую душу..
Также хорошо заказывать и за себя, будет живо чувствоваться поддержка. И ещё один важнейший момент, но далеко не самый маловажный,
Существует вечное поминовение на Неусыпаемой Псалтири. Кажется
дорого, но результат в больше чем в миллионы раз превышает
потраченные деньги. Если же такой возможности все равно нет, то
можно заказываться на меньший срок. И хорошо также читать самому.
Подготовка к похоронам
В народных обычаях, связанных с похоронами, можно выделить три основных этапа.
Предпогребальные обрядовые действия: подготовка тепа умершего к
похоронам, омовение, одевание, положение во гроб, ночные бдения у
гроба покойного.
Погребальные обряды: вынос типа, отпевание в
церкви, дорога на кладбище, прощание с умершим у могилы, погребение
гроба с телом в могилу, возвращение родных и близких обратно в дом
умершего.
Поминки: после похорон и доме умершего на третий, девятый,
двадцатый, сороковой дни, полгода, годовщину после смерти, с
заказыванием поминальных треб в церкви, поминальными трапезами и
домашними молениями по умершим.
Многие пред погребальные действия,
помимо практической необходимости, имеют древнее, ритуальное
происхождение. Смерть мыслилась как дорога в загробный мир, а
омовение, обряжение покойного и другие действия по подготовке его к
похоронам - как бы сборами в дальнюю дорогу. Омовение имело не только
гигиеническую цепь, но рассматривалось и как очистительный обряд.
По церковному вероучению, умерший должен уйти «к Господу с чистой
душой и чистым телом». Религиозно-магический характер омовения
подчеркивался тем, что его совершала особая профессиональная
категория людей - омывальщиков. Эта профессия чаще становилась уделом
старых дев и старых вдовцов, уже не «имеющих греха», то есть интимных
отношений с людьми противоположного пола. Если девушка долго не
выходила замуж, то ее пугали тем, что она будет «обмывать
покойников». Девицы, занимавшиеся «собиранием» умерших и чтением над
ними Псалтири, носили темную одежду. За труд они получали белье и
носильные вещи умершего. Если не было специалистов - омывальщиков,
издавна было принято, чтобы омовение умерших производили люди, не
состоявшие в родстве с умершим. Согласно церковному поучению, матери
не полагалось обмывать своего умершего ребенка, так как она
обязательно будет его оплакивать; а это осуждалось как отступление от
веры в бессмертие души: по христианскому вероучению, ребенок
обретает райскую жизнь, и поэтому его смерть не должна оплакиваться. В
народе сложилось поверье, что материнская слеза «жжет ребенка».
В
прошлом процедура омовения носила ритуальный характер, магическую,
направленность. Она совершалась на полу у порога избы. Покойника
клали на солому ногами к печи. Обмывали два-три раза теплой водой с
мылом из глиняного, обычно нового, горшка. На атрибуты омовения -
горшок, воду, мыло, гребень - переносились свойства мертвеца, его
мертвящая сила. От них старались скорее избавиться. Вода, которой мыли
покойника, называлась «мертвой», ее выливали в угол двора, туда где
нет растений, где не ходят люди, чтобы здоровый человек не мог на нее
наступить. Таким же образом поступали с водой, которой мыли посуду
после поминок. Такова была и участь глиняных горшков для омовении:
их выносили в овраг, на «рубеж» поля, на перекресток дорог, где, как
правило, стоял крест, столб, часовня, там их разбивали или просто
оставляли. Цель этих действий - предотвратить возвращение покойника,
чтобы он «не являлся» живым и «не стращал» их. Эти места считались в
народе страшными, и мало находилось смельчаков, которые решились бы
проходить мимо них в глухую полночь. Свойства предметов омовения
«омертвлять» живое использовались в практике вредоносной магии:
«мертвую» воду колдуны употребляли для порчи молодоженов, кусок савана
плотники заколачивали в дверной косяк при постройке дома, когда
желали беды неугодному им хозяину. Мыло, употреблявшееся для
омовения покойника, в домашней медицине применяли с иной целью -
подавить, умерить нежелательные явления: жены подавали его для
умывания злым мужьям, чтобы их «злоба замирала», а девушки мыли им
руки, чтоб кожа на них не дрябла.
В настоящее время обмывание
покойного совершается чаще всего в морге. Однако еще встречаются,
особенно в деревнях, старушки-обмывалки. Из старинных обычаев,
связанных с этим обрядом, уже многие забыты, в частности, магические
свойства предметов омовения уже мало кто помнит.
При одевании
покойных провожающие их иногда испытывают затруднение в выборе цвета
одежды, и чаще всего предпочитают темную дли мужчин и светлую - для
женщин. Но интересно, что в средневековой России хоронили, как
правило, в белом. Это можно объяснить не только влиянием
христианства, которое связывало этот цвет с духовной, младенческой
чистотой христианской души - душа уходит к Богу такою, какой пришла
на землю при рождении. Белый цвет одежды умершего - это натуральный
цвет домотканого холста, с древности основного материала одежды
русского населения.
Магические свойства всегда приписывались
женским волосам, отчего а старину замужней женщине считалось
греховным ходить простоволосой, а в церкви всеем - от
девочек-младенцев до старух - полагалось находиться в головном уборе
(что обычно соблюдается и теперь). Это отразилось и на
погребальном костюме. Женщин было принято хоронить в платочках:
молодых – в светлых, пожилых - в темных.
Вообще одежда умершей
девушки и сами похороны были а России особенными. Это связано с
народным пониманием сущности смерти. Смерть молодой девушки была
редким событием. Она воспринималась не только как переход в новое
состояние, новую форму бытия, уже загробного, но и как особый этап
этого бытия, подобный земному. Смерть молодых незамужних и неженатых
людей совпадала в земной жизни с брачным возрастом, с поворотным
этапом в земной жизни - браком. Это служило основанием для
сопоставления и совмещения погребального обряда со свадебным.
Не
только у русских, у многих народов был обычай одевать девушку, умершую в
расцвете молодости, в подвенечный наряд, готовить ее к погребению,
как невесту на свадьбу. На похоронах умершей девушки даже
имитировали свадебный обряд, пели свадебные и подвенечные песни. Как
девушке, так и парню на безымянный палец правой руки надевали
обручальное кольцо, между тем как женатому человеку и замужней
женщине кольца не надевали.
Сейчас тоже встречается обычай хоронить
молодых девушек в свадебном наряде, а на их поминках пить
шампанское, имитируя несостоявшуюся свадьбу.
В прошлом способ
изготовления погребальной одежды подчеркивал ее специфическую
функцию - предназначенности преисподнему миру. Одежда была как бы не
настоящей, а лишь ее заменой, не сшитой, а лишь наметанной. Ее шили
обязательно на руках, а не на машинке, нитку закрепляли, держали
иголку от себя вперед; иначе покойник опять придет за кем-нибудь в
свою семью. Имитацией была и обувь покойника: в кожаной обуви, как
правило, не хоронили, а заменяли ее матерчатой. В случаях, когда
надевали сапоги, железные гвозди из них выдергивали. Онучи,
надевавшиеся с лаптями, на ногах обвязывая так, чтобы крест,
образуемый шнурками, приходился спереди, а не сзади, как у живых.
Таким образом, придавалось как бы обратное направление движению
умершего чтобы он не мог вернуться назад в дом.
Прежде был известен
обычай помещать постель умершего и одежду, в которой он умер, под
куриный насест и держать их там в течение шести недель (пока душа
умершего, по поверью, находится дома и нуждается в одежде).
Местонахождение одежды свидетельствует о связях души с образом
птицы. В наши дни это поверье редко кто помнит. Некоторые
родственники умерших сохраняют одежду и постель до этого срока, но
большинство вещей, принадлежащих покойному, сжигают или закапывают.
В настоящее время в обычае хоронить в новой, еще не носившейся одежде
прослеживается отголосок верования, что новизна одежды умерших -
синоним чистоты, безгрешности души, которая должна являться на тот
свет чистой. Многие пожилые люди заранее готовят себе «смертный
наряд».
Хотя сейчас, чаще всего в силу экономических причин, бывает,
что хоронят и в старом - мужчин обычно в темном костюме, рубашке с
галстуком, женщин - в платье или юбке с кофтой, как правило, светлых
тонов, но использование в качестве обуви специальных тапочек -
явление повсеместное. Они входят в комплект похоронных
принадлежностей (так же, как и покрывало, имитирующее саван) ритуальных
бюро. Тапочки без твердой подошвы, как обувь, не предназначенная для
носки, отражают вышесказанный обычай облачать покойного в
«ненастоящую» обувь и одежду.
Прежде (да иногда и теперь) при
положении умершего в гроб принимали меры магической
предосторожности. Тело брани не голыми руками, а надевали рукавицы. Избу
постоянно окуривали ладаном, сор из избы не выносили, а подметали
под гроб, направляя в сторону умершего. Эти действия отражают ч уест
во страха перед покойником, восприятие его как воплощения
вредоносной мертвящей сипы, от которой необходимо себя оградить.
Пока готовили гроб, омытого покойника клали, на лавку, застеленную
соломой, в переднем углу избы так, чтобы его лицо было обращено к
иконам. В избе соблюдали тишину и сдержанность. Гроб соответственно
рассматривался как последний реальный дом умершего. Важным
элементом собирания покойного на тот свет было изготовление гроба –
«домовины», подобия настоящего дома. Иногда даже делали в гробу
застекленные оконца.
В местностях богатых лесом старались делать
гробы, выдолбленные из ствола дерева. Использовались разные виды
деревьев, но только не осина. Гробы устилались изнутри чем-нибудь
мягким. Обычай делать из гроба имитацию постели сохранился повсеместно.
Мягкая обивка, покрытая белым материалом, подушка, покрывало.
Некоторые пожилые женщины собирают при жизни собственные волосы,
чтобы набить ими подушку.
Правила православного захоронения
предусматривают класть в гроб мирянину, помимо нательного крестика,
образок, венчик на лоб и «рукописание» - написанную или напечатанную
молитву, отпускающую грехи, которую вкладывают в правую руку
покойника, а также свечи.
До сих пор сохраняется и легко
объяснимый обычай класть в гроб вещи, которые могут якобы
пригодиться умершему на том свете, корни его совершенно очевидно
уходят в языческие времена.

Этот вид можно заказать и в любой час – в этом тоже нет никаких ограничений. Великим постом, когда намного реже совершается полная литургия, в ряде церквей так практикуют поминовение – в алтаре в течение всего поста прочитывают все имена в записках и, если служат литургию, то вынимают частички. Нужно только помнить о том, что в этих поминаниях могут участвовать крещеные в Православной вере люди, как и в записках, подаваемых на проскомидию, разрешается вносить имена только крещеных усопших.
Проводы усопшихЕсли первый этап традиционных русских похорон представлял собой
сборы в дорогу в загробный мир, то второй этап являлся как бы
началом этой дороги. Комплекс обрядов этого этапа (вынос тела,
отпевание в храме, похоронная процессия на кладбище, захоронение
возвращение родственников умершего в дом) многофункционален. Он
включает как исполнение христианских требований, так и серию
предохранительных магических действий, основанных на страхе перед
умершим.
К первым относятся чтение и моления «на исход души». Хотя
теперь в городе чаще всего стараются в день смерти перевезти
усопшего в морг, в православных семьях, а небольших городах и
деревнях, где нет моргов, сохраняется традиция ночного бдения около
покойника. В тех случаях, когда не приглашается священник, Псалтирь
или другие священные книги читаются верующими мирянами. Зачастую даже
бывает, что ночные бдения старушек возле умерших ровесниц не
сопровождаются чтением христианских текстов, а проходят в самых
обычных воспоминаниях или беседах – «я посидела у гроба, и у меня
посидят».
Поныне устойчиво сохраняется такая деталь похоронного
ритуала: сразу после смерти на полочку к иконам или на окно ставят
стакан воды, накрытый куском хлеба.
На поминальном обеде подобным
образом оставляют рюмку водки, накрытую куском хлеба, и иногда этот
символический прибор ставится у символического места покойного за
столом. Наиболее типичное объяснение этого – «душа находится до шести
недель дома».
Истоки подобного обычая вероятно такие: это
присущая всем древним верованиям пищевая жертва. В данном случае,
правда, трудно определить, кому изначально - духу умершего, предкам,
Богу или это откуп от злого духа. Сейчас этот распространенный, как
и другие, элемент обряда является в большей степени средством
облегчения утраты, снятия стрессового психологического состояния
близких, поддержания убеждения, что, следуя традиции, они отдают
умершему последний долг.
Один из элементов домашнего траурного
ритуала - зажжение свечей в изголовье покойного, их прикрепляют к
углам гроба, ставят в стакан на стопе, а перед иконами - лампады.
В настоящее время точные сроки выноса тепа, отпевания, похорон,
согласные с церковными правилами, соблюдаются редко, и
священнослужители, совершающие заупокойные требы, обычно не
настаивают на точности. В народе же бытует мнение, что раньше
двенадцати часов и позже захода солнца выносить покойного из дому
нельзя.
Любопытно, что много народных обрядов, связанных с выносом
тела, проводами на кладбище, несут на себе отпечаток языческой
предохранительной магии
В самой психологии картины смерти,
присутствия трупа среди живых лежит противоречие жизни и смерти,
отсюда и боязнь мертвецов, как относящихся уже к непостижимому миру.
Опасность мертвеца для живых состояла в том, что он якобы может
вернуться в дом и «увести» кого-либо из близких за собой. К мерам,
оберегающим живых, следует отнести обычай выносить тело из дома
нотами вперед, стараясь не задеть за порог и косяки двери, чтобы
предотвратить возвращение покойника по своему следу.
Известен и
такой обычай, как «замещение места» покойного. На стол или стулья, на
которых в доме стоял гроб, после выноса покойного садятся, а потом эта
мебель на некоторое время переворачивается кверху ножками. Смысл
этого обряда тот же, что и способ выноса гроба - препятствие
возвращению покойника.
В прошлом на русских похоронах, как только
выносили гроб, на то место, где он стоял, падал кто-либо из
родственниц покойника или садилась сама хозяйка дома. На севере, в
Сибири, как только покойника вынесут, на передний угол избы клали
камень или полено, или ставили квашню, чтоб не умер другой член семьи.
Существовал и такой обычай; один из родственников три раза обходил
вокруг гроба с топором в руках, держа его лезвием вперед, при
последнем обходе ударял обухом по гробу. Иногда при выносе покойника
клали топор на пороге. Археологические материалы свидетельствуют о
том, что суеверное отношение к топорам уходит в глубокую древность. У
древних славян топор являлся символом Перуна и был связан с громом и
молнией, и следовательно был амулетом, оберегом от злых, вредоносных
для человека духов. В позднейшие времена он также играл для
покойного отпугивающую роль от «нечистой» силы либо для дома от
самого покойного.
К рассматриваемой группе обычаев относится широко
распространенный у многих народов, в том числе и у славян, обычай
выносить умершего не через входную дверь, служащую живым, а через
окно или специально проделанное отверстие. Смысл его - обмануть
покойника, чтобы «запутать его след»; согласно верованиям, мертвец
может вернуться в дом только известным ему при жизни путем. Но сейчас
этот обычай, особенно в городе встречается очень редко.
Издревле
в славянских сельских общинах - истоке наших обрядовых традиций -
смерть носила социальный характер. Восприятие смерти одного из членов
сельского коллектива в общественном сознании отражалось не как
узкосемейное событие, а как общественно значимое, нарушающее течение
деревенской жизни, причем чем значительнее была личность умершего,
тем более широкая округа оказывалась втянутой в орбиту обрядовых
действий, направленных на нейтрализацию смертоносной силы, исходящей от
покойника, предотвращение зла, которое он мог причинить в будущем,
обеспечение его благорасположения и помощи.
Глубинная идейная
основа этого явления, восходящая к культу предков и его связи с
аграрными культами, позднее переосмыслилась, оказалась соотнесенной с
социальной средой сельской общины. Мотивом обеспечения
благорасположения умершего являлось то, что умерший на том свете
будет встречать души людей, которые провожали его на земле. В
соответствии с нормами обычного права похороны были делом всего
сельского общества участие в них было обязательным для всех односельчан,
проведение их контролировалось общиной.
Обряд похорон имел
определенный нравственно-этический аспект. При выносе тела умершего
из дома в народе было принято громко плакать, открыто выряжая свое
горе причитаниями. В них показывалась общественная оценка жизни
покойного, проявлялась его репутация. Над гробом причитали не только
близкие родственники покойного, но и соседи. Если родственницы не
плакали, соседи брали под сомнение чувство привязанности родных к
умершему. В плачах имело место воздействие на общественное мнение в
отношении живых. «Вытье» считалось данью уважения и любви к покойнику.
По числу воющих женщин (не родственниц) можно было определить, каковы
были отношения умершего с соседями.
Еще древнерусская церковь
наложила запрет на народные вопли и плачи - «не плакать по
умершим». Надгробные плачи расценивались как проявление языческих
представлений об участи души за гробом, отсутствие у народа
христианской веры в бессмертие души. Как уже упоминалось, матери не
должны были плакать по умершим детям. В народных религиозных
рассказах в наглядных образах рисовалась скорбная участь на том
свете умерших детей, оплаканных матерями: умершие дети изображались или
в отяжелевших от материнских слез одеждах, или сидящими в болоте,
или носящими в тяжелых ведрах изливаемые матерью слезы. Однако
церковный запрет в повседневной жизни не соблюдался.
Петр I со
свойственной ему страстью к администрированию издал даже специальный
указ о воспрещении плача на похоронах, который действия не возымел.
Порядок организации и следования похоронной процессии в различных
регионах России в прошлом был в основном однотипен. Похоронное
шествие возглавлял несущий распятие или икону, обрамленную рушником.
Затем следовали один или два человека с крышкой гроба на голове, за
ними - духовенство. Две-три пары мужчин несли гроб, за которым шли
близкие родственники. Траурную процессию замыкали соседи, знакомые,
любопытные.
Интересно, что обычай нести гроб на руках сравнительно
поздний. В русских деревнях еще в прошлом веке из суеверных
соображений переносить гроб часто старались в рукавицах, на
полотенцах, на жердях, на носилках.
Того же рода и способ перевоза
гроба на кладбище. В некоторых местах старались доставить мертвеца к
месту захоронения на санях, причем даже летом. Сани потом либо
сжигали, либо оставляли до сорокового дня лежащими вверх полозьями. В
этом обычае можно заметить переплетение языческого обряда сожжения
трупа вместе со средством загробного передвижения и магического
препятствия возвращению мертвеца.
При выносе покойника из дома в
прошлом производился обряд «первой встречи», символизировавший
тесную связь мертвых и живых. Он состоял в том, что человеку,
который первым встретил на пути похоронную процессию, вручали краюху
хлеба, завернутую в полотенце. Подарок служил напоминанием, чтобы
«первый встречный» помолился за умершего, а умерший в свою очередь
первым встретил на том свете принявшего хлеб.
По дороге до храма
и от храма до кладбища разбрасывали зерно для кормления птиц, что
служит еще одним подтверждением двойственного представления о
посмертном бытии души в виде ее зооморфного образа или а виде
бестелесной субстанции.
Похоронной процессии, по Церковному уставу,
полагалось останавливаться только в церкви и возле кладбища, и, как
правило, она останавливалась в наиболее памятных для покойного
местах села, около дома умершего соседа, на перекрестках дорог, у
крестов, которые в некоторых местностях так и назывались
«покойничьими». Здесь часть провожающих останавливалась, далее
следовали преимущественно родственники. Первоначальный смысл этого
обряда, видимо, заключался в том, чтобы спутать следы, чтобы
умерший не мог вернуться к живым, а впоследствии это истолковывалось
как прощание умершего с теми местами, с которыми была связана его
жизнь
На современных похоронах иногда выполняется запрет - обычай
не разрешает детям (сыновьям) нести гроб с телом родителей и
закапывать могилу. В прошлом запрет был обусловлен боязнью очередной
жертвы в семье, страхом перед магической способностью умершего
увести за собой в могилу кровного родственника. В настоящее время гроб
чаще несут товарищи по работе, дальние родственники.
В целом
обряд несения гроба сейчас значительно видоизменился по сравнению с
прошлым. При общественно значимых похоронах, известных лиц, при большом
стечении родственников, друзей, коллег покойного гроб стараются
пронести на руках там, где позволяют условия, как можно дольше в
знак уважения к памяти безвозвратно ушедшего человека.
Состав
современного траурного шествия обычно таков: вначале несут венки, потом
крышку гроба - узкой частью вперед, гроб с покойником. За гробом
первыми идут родные, близкие, затем все провожающие.
Устоявшийся
гражданский ритуал похорон определяет и состав похоронного шествия с
элементами, невозможными в прошлом и в православном ритуале: траурная
музыка духового оркестра, несение в шествии портрета покойного в
черной рамке, несение подушечек с орденами и медалями, прощальные
речи. Интересно отметить, что в наши дни часто встречается
причудливое смешение гражданского ритуала с церковным. Например,
установление на могиле одновременно и православного креста, и портрета
умершего человека.

Панихида начинается обычным
возгласом: "Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки
веков". Затем читается Трисвятое по Отче наш. Господи помилуй 12 раз.
Слава и ныне. Приидите поклонимся...псалом 90-й: "Живый в помощи
Вышняго...". В этом псалме пред нашим духовным взором предстоит
отрадная картина перехода в вечность истинно верующей души по
таинственному пути, ведущему к обителям Отца Небесного. В символических
образах аспидов, львов, скимнов и драконов псалмопевец выражает
мытарства души на этом пути. Но здесь псалмопевец изобразил нам и
Божественное охранение верной души усопшего: "Он избавит тебя от сети
ловца, от гибельной язвы; перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его
будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его". Верная душа говорит
Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю".
Обряд погребения совершался до захода солнца, когда оно находится
еще высоко, чтобы «заходящее солнце могло захватить с собой
умершего»
Это, а также, например, опускание вместе с гробом в
могилу церковных свечей, горевших во время отпеваний, не
противоречит законоположениям православия. Также, как и существующее
поныне последнее целование умершего близкими и родственниками, как и
обычай со стороны провожающих бросить в могилу по горсти земли с
пожеланиями: «Пусть земля тебе будет пухом». Впрочем, вместо этой
фразы можно кратко помолиться: «Упокой, Господи, душу раба Твоего
новопреставленного (имя), и прости ему вся согрешения его вольная и
невольная и даруй ему Царствие Небесное». Молитву эту можно
совершать и перед тем, как приступить к очередному блюду во время
поминок.
Был и кое-где остается такой архаический элемент
обрядности, как обычай бросать в могилу мелкие деньги. Существовало
несколько народных, истолкований этого обычая. Одно - как выкуп
места на кладбище для умершего, что является дополнительным
свидетельствам связи умершего с местом его захоронения - могилой,
землей. Если не откупить места, покойник будет по ночам приходить к
живым родственникам и жаловаться на то, что «хозяин» подземного мира
гонит его из могилы. По другому варианту деньги клали, чтоб умерший
мог купить себе место на том свете.
По народно-христианскому
истолкованию деньги, положенные в гроб или брошенные в могилу,
предназначались для оплаты перевоза через огненную реку или для оплаты
свободного прохода по мытарствам. Этот обряд сохраняет устойчивость и
совершается независимо от того, к какой возрастной,
социально-профессиональной группе принадлежал при жизни покойник.
Иногда а могилу бросают «слезовой» платочек. После того, как могила
засыпана, на надмогильном холме устанавливают венки, в центре –
цветы. Иногда сразу ставят крест или временный обелиск, памятную
доску с фамилией, именем, датой рождения и смерти.
Считается за правило не устанавливать постоянный памятник на могиле ранее, чем через год после смерти.
Естественная для любивших и потерявших близкого человека трагедия
прощания с ним на погребении сопровождается плачем, причитаниями
женщин. Но мало кто представляет, что причитания типа «Ой, мамочка,
на кого ж ты меня оставила...», «Что ты собрался так рано, муж мой
любимый» содержат в себе элементы формул еще языческих намогильных
причитаний, которым не менее двух тысяч лет.
Традиционное угощение
кладбищенских рабочих-копателей, краткая поминальная трапеза на
погосте с выпивкой «за помин души», с кутьей, блинами, с разбрасыванием
остатков пищи на могиле для птиц (душ умерших) повсеместно
существует и теперь.
В прошлом особым способом поминовения души была
«тайная», или «потаенная», милостыня. Она обязывала соседей
молиться за усопшего, при этом молящийся принимал на себя часть
грехов умершего. «Тайная» милостыня состояла в том, что родственники
умершего сорок дней раскладывали по окнам, крыльцам беднейших соседей
(бобылок, стариков и т. п.) подаяние, хлебцы, блины, яйца, коробки
спичек, иногда более крупные вещи - платки, куски ткани и др. Как и
все поминки были жертвой, так и милостыня была жертвенной пищей.
Помимо «тайной» милостыни, существовала явная, открытая милостыня –
«в знак памяти» - раздача пирогов, печенья, сладостей нищим и детям у
ворот кладбища. При отпевании также раздавали присутствующим по калачу
и зажженной свече. Во многих местах каждому участнику поминок
вручали по новой деревянной ложке, чтобы при еде этой ложкой
вспоминали умершего. Для спасения грешной души делали пожертвование
на новый колокол, чтобы он «вызвонил» погибшую душу из ада, или
отдавали соседям петуха, чтобы он пел за грехи покойника.
Сейчас,
помимо раздачи милостыни кладбищенским и церковным нищим, существует и
особая форма милостыни-поминовения - раздача на похоронах некоторым
близким платков. Платки эти полагается бережно хранить.
В прошлом, в соответствии с народными этическими нормами, члены
семьи умершего должны были соблюдать определенные формы траура.
Требование соблюдения траура распространялось как на длительный
период - год, так и на более короткий срок - шесть недель после
смерти. Наиболее общепринятые формы траура ношение траурной одежды,
запрет на выход замуж вдовы и женитьбу вдовца, брак взрослых детей.
Первоначальный смысл траурной одежды - изменение обычного вида с целью
предупреждения возвращения умершего - уже давно утрачен, но обычай
сохраняется и по сей день.
Траур предполагал также отказ от
развлечений, плясок, песен. В качестве траурной одежды у людей
небогатых использовалась обычная рабочая одежда. Но в некоторых,
особенно в северных губерниях России, а период траура носили старинный
национальный наряд.
Траур, «тужение» по случаю потери кормильца,
хозяйки держался всегда дольше, чем траур по старикам. И сейчас не
утратило своего значения соблюдение траура по умершему: ношение
темного платья, черного платка до 40 дней, частое посещение
кладбища, запрет на развлечения и участие в светских праздниках и т. п.
Нельзя не заметить, что и здесь происходит упрощение, размывание
традиции. Более длительный срок ношения черного или темного платья
(год и более) обусловлен тяжестью потери. Их носят чаще матери,
потерявшие взрослых безвременно погибших детей.
До одного года
иногда соблюдают траур также и вдовы. Дочери, похоронившие престарелых
родителей, сокращают срок ношения траурной одежды до шести недель, а
то и до одной недели. Мужчины надевают темный костюм только для
участия в погребальном ритуале, а в последующем - не соблюдают
внешних признаков траура.
В знак траура в доме занавешивают
зеркала, останавливают часы; из помещения, где стоит гроб с телом,
умершего, выносят телевизор.
Традиционно в России похороны всегда
завершались поминками, поминальным обедом. Совместная трапеза
закрепляла похоронный обряд, была и остается его не самой печальной,
а, напротив, иногда даже жизнеутверждающей частью.
Похоронному
обряду в большей степени, чем другим семейным обрядам, присуща функция
семейного и общественного психологического объединения. Она
проявляется в том, что обряд формирует чувство близости со своей
семьей, родственным коллективом, сельской общиной - через сплочение
в горе, преодоление несчастья, разделение потери семьи,
объединение в поддержке.
Одновременно обряд нес идею исторической
связи живых и мертвых, непрерывности жизни в чередовании поколений.
Смысл поминок - пробуждение и поддержание памяти, воспоминания об
умерших предках. В поминальном обряде всегда сохранялось воспоминание
о том что умершие были когда-то живыми, и что воспоминание мыслилось
как действие, в котором умерший воплощается и становится как бы
его участником.
В некоторых формах поминок, сохранивших традицию
приглашения широкого общественного круга, можно восстановить идею
связи родового коллектива. В этом плане показателен состав
участников поминального стола сразу после похорон и на сороковой день.
В XIX веке поминание было семейным обрядом, собиравшим в основном
родственников и близких. Почитание мертвых носило домашний
характер. Но местами поддерживалась идущая из глубины веков
традиция, что на поминки может прийти любой человек. В качестве
почетных гостей приглашали духовенство.
В народе прочно бытовало
представление, что молитва облегчает участь грешной души за гробом,
помогает ей избежать адских мучений. Поэтому родственники умершего
заказывали в церкви заупокойную службу (обедню) с поминанием усопшего в
продолжении шести недель после смерти - сорокоуст. Кто победнее,
тот заказывал сорокоуст читальщику, который в течение сороки дней
на дому умершего читал канон. Имена умерших записывали в годовое
поминовение - синодик.
Традиционные срони поминовения умерших в
рамках семейной обрядности были ориентированы на сроки,
установленные церковью. Помимо церкви, одним из путей распространения
религиозных сведений о поминальных сроках была популярная литература,
предназначенная для народного понимания, в частности, ходовые
«Поминания», рассказывающие о судьбе душ в загробном мире. В
народной среде отмечались следующие поминальные дни: день похорон,
третий и шестой дни после смерти - редко, девятый и двадцатый - не
всегда, сороковой - обязательно. Далее «справляли» полугодовину,
годовину, а затем - уже в рамках календарной обрядности - следовали
родительские дни.
В акте совместной поминальной трапезы
сохранялась определенная знаковость обрядовых блюд: они имели скорее
символический, нежели ритуальный характер. Этнический колорит
прослеживается в наборе блюд, порядке их смены, времени проведения
обрядовой трапезы. Основой рациона русских был хлеб. Хлеб в его
разновидностях всегда использовался и в обрядовых целях. Поминальная
трапеза начиналась и заканчивалась кутьей и блинами, их дополняли
оладьи. На поминках использовались архаические виды пищи - кутья,
каша, которые отличались древним происхождением и простотой
приготовления. Кутью в разных местностях готовили по-разному из зерен
пшеницы, сваренных в мёду, из разваренного риса с сахаром и изюмом. В
качестве поминального блюда употреблялась и каша (ячневая,
пшенная), с которой у русских было связано представление об особой
силе, заключавшейся в ней. Подача блюд строго регламентировалась. По
последовательности блюд поминальная трапеза носила форму обеда. Первое
- похлебка, щи, лапша, суп. Второе - каша, иногда жареный
картофель. Закуски - рыба, студень, а также к столу подавались
овсяный кисель и мед. В постные дни поминальный стол включал
преимущественно постные блюда, в скоромные дни в состав блюд
традиционно входили мясные щи и куриная лапша. Вино (водка) на
поминках употреблялись, но не везде.
Из серии поминальных сроков
кульминационным был сороковой день. Согласно народному объяснению,
этот срок связан с тем. что в течение сорока дней душа умершего
находится на земле. Бог не «определяет» ее ни в ад, ни в рай, ангелы
носят душу умершего по тем местам, где покойник грешил, и душа его
замаливает грехи. На сороковой день совершается Божий суд и душа
покидает землю окончательно. По народному поверью, душа умершего на
сороковой день «является» в свой дом на целые сутки и уходит лишь
после так называемого «отпуска» души, или «проводин». Если
«проводины» не устроить, то покойник будет мучаться. В проводах души
выражалась забота живых о загробной судьбе мертвых.
Подчас
традиции сорокового дня были трогательны и наивны. К приходу умершего
заранее готовились: мыли дом, с вечера застилали постель белой
простыней и одеялом. К постели никто не мог прикасаться, она
предназначалась исключительно для покойника. С утра приготовляли
обильный обед, на котором бывало много вина. К полудню накрывали
стол, собирались родные и знакомые. Приглашенный священник служил
литию. За столом он занимал главное место, с правой стороны от него
оставляли пустое место для умершего. На этом месте, под салфеткой
ставили тарелку, рюмку с вином, водкой, клали хлеб. Кланяясь этому
месту, хозяева как бы обращались к незримому покойнику: «Кушай-ка,
родименький». После обеда возглашалась «вечная память» и начиналось
прощание с умершим, сопровождаемое плачем. Взоры родственников
обращались в сторону церкви и кладбища, так как считалось, что
прежде чем уйти навсегда, покойник прощается со своей могилой.
Особую роль в поминальном обряде играло полотенце - символ пути,
указатель дороги домой. Обычно в углу дома у окна вешали полотенце,
которое находилось там, а течение сорока дней оно предназначалось
для души умершего, которая, по поверьям, сорок дней ходит по «своим
местам» и, прилетая к дому, отирает полотенцем свое лицо.
Поминки, проводившиеся в ближайшие после смерти сроки - до сорокового
дня, а затем через полгода и год, совершались как семейный обряд,
обряд жизненного цикла, семейное священнодействие. Им был присущ
замкнутый характер, присутствие узкого круга родственников, близких
членов семьи. Он направлен на конкретную личность, определенного
члена семьи. Их цель - сохранение кровнородственных связей с
умершими.
Поминовения по родительским субботам всегда в народе
соблюдались с особым тщанием. Да и в панихиды случившиеся в другие
дни, многие старались подать записочку о молении за упокой души.
Ввиду невысокой грамотности населения почти в каждой семье имелся
составленный для семьи батюшкой синодик со списками имен умерших,
которых следовало поминать в церкви.
Поминки и по сей день
представляют собой не только одну из традиционных форм выражения
жалости и сострадания, но и устойчивую форму общения населения, о чем
свидетельствует участие в них обычно большого числа родственников,
знакомых, соседей, сослуживцев, приходящих на них без специального
приглашения. Они являются одним из мощных средств передачи от одного
поколения к другому народных традиций. В этом важнейшая причина
сохранения их бытования в народе. В поминальной трапезе сохраняются
обрядовые еда и питье, причем удерживаются не отдельные блюда, а
нередко их традиционный набор.
Чаще всего поминальный стол - это
обычный торжественный стол, только с более скромным украшением блюд.
Однако отмечено, что многие считают более приличным употребление в
виде напитков домашнего компота или характерного для русской кухни
киселя, а не покупного лимонада: из крепких напитков - водки и кагора
(«церковного вина»), а не коньяка, шампанского и пр.
Сейчас
приобретает все большую масштабность посещение могил умерших на
православные Праздники - Пасху и Троицу. Первостепенную роль во
внецерковной стороне современной обрядности Пасхи играет совместная
трапеза с умершими, восходящая к языческому жертвоприношению. На
могилах (на тарелках, на бумаге) помещают приношения в разных
наборах, например, несколько крашеных яиц, кусок кулича, яблоко, конфеты
или раскрошенный кулич; очищенные яйца; или на столике у могилы
пшено, несколько штук печенья.
Иногда оставляют на могиле
стаканчик спиртного «для покойника». Или же, если семья устраивает на
кладбище импровизированную трапезу, стаканчик водки выливается на
могилу.
На Пасху и Троицу принято ремонтировать, подкрашивать крест,
памятник, оградку (весенний ремонт «дома покойного»), украшать
могилу цветами. На Троицу особенно трогателен обычай использовать
полевые цветы и венки из березовых веток, развешиваемых на крестах и
оградках.
Итак, в русском погребальном обряде, несмотря на
печальный, порой даже трагичный характер его причины - смерти
человека - сохраняется множество очень старых традиций, служащих
объединению семьи и сплочению всего нашего народа, носителя древней и
великой культуры.

О здравии поминают имеющих христианские имена, а о упокоении - только крещенных в Православной Церкви.
На литургии можно подать записки:На - первую часть литургии, когда за каждое имя, указанное в записке, из особых просфор вынимаются частицы, которые впоследствии опускаются в Кровь Христову с молитвой о прощении грехов Дни особого поминовения усопших (родительские дни)
Каждый день недели в Православной Церкви приурочен к особому
воспоминанию (Пресвятой Богородицы, Иоанна Крестителя и др.). Суббота
же посвящена памяти всех святых и почивших. В субботу (означающую
по-еврейски - покой) Церковь молится за всех перешедших от земли в
загробный мир, как совершенных (святых), так и несовершенных, участь
которых еще окончательно не решена. Кроме ежедневных молитв и субботы,
в году есть отдельные дни, преимущественно посвященные молитвам за
усопших. Это, так называемые, родительские дни (на Руси всех усопших
предков было принято называть родителями):
1. Мясопустная
вселенская родительская суббота - за неделю до Великого поста.
Название мясопустной эта суббота получила по следующему за ней дню -
"Недели мясопустной", т.е. дню, в который последний раз разрешается
мясная пища.
2. Родительская вселенская суббота 2-й недели Великого поста.
3. Родительская вселенская суббота 3-й недели Великого поста.
4. Родительская вселенская суббота 4-й недели Великого поста.
5. Радоница - вторник второй недели после Пасхи. Радоницей этот день
назван в ознаменование радости живых и усопших о Воскресении
Христовом.
6. 9-го мая - день поминовения всех погибших в годы
Великой Отечественной войны (постановление о поминовении принято на
Архиерейском Соборе, проходившем в ноябре-декабре 1994 года).
7.
Троицкая вселенская родительская суббота - суббота перед днем Святой
Троицы. (В настоящее время сложился неправильный обычай считать
родительским днем сам праздник Троицы).
8. Димитриевская суббота -
суббота за неделю перед праздником памяти великомученика Димитрия
Солунского (8 ноября по новому стилю) - Небесного Покровителя
благоверного великого князя Димитрия Донского. Одержав победу на
Куликовом поле, князь Димитрий совершил поименное поминовение павших
на поле брани воинов накануне своего дня Ангела. С тех пор Церковь
поминает в этот день, названный народом Димитриевской субботой, не
только воинов, погибших за Отечество, но и всех усопших православных
христиан.
9. Кроме того, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна (11 сентября по новому стилю) Церковь
совершает поминовение православных воинов, за Веру и Отечество на
поле брани убиенных. Поминовение в этот день установлено в 1769 году
во время войны с турками и поляками по указу императрицы Екатерины
П.
В родительские дни православные христиане посещают храмы, в
которых совершаются заупокойные службы. В эти дни принято приносить
жертву на панихидный стол (канун) - различные продукты (за
исключением мясных). После совершения панихиды продукты раздаются
служащим храма, нуждающимся, отправляются в детские дома и дома
престарелых. Продукты на панихидный стол приносят и в другие дни,
когда заказывают панихиду, так как это есть милостыня за усопших.
В весенние и летние родительские дни (Радоница и Троицкая суббота)
принято после церкви посетить кладбище: поправить могилки умерших
родственников и помолиться уже рядом с их погребенными телами.
Обычай оставлять на могилках различную снедь к православию никакого
отношения не имеет. Это все отголоски языческих тризн. В некоторых
местах существует обычай в Радоницу приносить на кладбище и оставлять
там крашеные яйца и конфеты, как бы символично христосоваясь с
умершими. Но лучше этого не делать, а, мысленно похристосовавшись с
почившим, самому скушать яйцо. Иначе эту пищу просто расклюют и
съедят птицы и собаки, напачкав вдобавок на могиле.
Большой грех
на кладбище, где покоятся наши близкие, пить спиртное. Самое лучшее,
что вы можете сделать для них, - это совершить молитву, хотя бы такую
краткую: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, всех наших
родных и близких, и прости их вся согрешения вольная и невольная, и
даруй им Царствие Небесное».
Молитву об усопшем Святая Церковь считает необходимой частью не
только богослужения в храме, но и домашнего правила. Конечно,
главное - это церковное поминовение усопших, вместе с пастырями. Но
домашняя молитва - это так же и наш долг перед усопшими,
доказательство нашей любви к ним. Тем более необходима домашняя молитва
в дни памяти умерших, если невозможно было помянуть их в храме.
В третий, девятый, сороковой дни и годовщины (где принято, также в
двадцатый день и полгода) память усопшего следует почтить чтением
Панихиды. Во все сорок дней после кончины время особого поминовения,
когда решается судьба души почившего, ежедневно должен читаться
Канон об усопшем. Все эти последования можно читать как дома, так и
на кладбище. В остальные дни можно читать или Панихиду, или отдельно
Каноны об усопшем, усопших. Также поминают усопших на Псалтири и
читают помянник в утренних (а по желанию и в вечерних) молитвах. Под
субботу можно читать за всех своих родственников один из Канонов об
усопших.
Великий канон об усопших в церкви совершается всего два
раза в год - в Мясопустную и Троицкую Вселенские родительские
субботы. Но в домашней молитве можно его читать и в любое другое
время - по желанию и по силам, по благословению духовника. Это
поминовение всех от века усопших православных христиан. Есть
благочестивый обычай - раз в году совершать поминовение всех своих
сродников и в домашней молитве, и поминальной трапезой. Можно
выбрать для этого или день памяти кого-то из родных, или просто
какой-то удобный для поминовения день, когда разрешена, по Уставу,
домашняя заупокойная молитва, то есть не в праздничные и не в
воскресные дни. Необходимо особо отметить, что о составе и пределах
своей домашней молитвы обязательно следует советоваться со
священником, а главное - со своим духовным отцом.
Церковные требы в православных храмах Иерусалима
Почти ежедневно мы слышим рекламу в метро, призывающую посетить православную ярмарку на ВВЦ, на которой можно «задать вопросы священнику, встретиться с православным психологом и приобрести монастырскую продукцию». Что же реально представляет собой православная ярмарка на ВВЦ, с кем там можно встретиться и чьи консультации получить – мы попробовали разобраться.

.jpg_w700_h467.jpg) История праздника, картины, обычаи, обряды празднования по всему миру под катом - оч много
История праздника, картины, обычаи, обряды празднования по всему миру под катом - оч много4 декабря - Запрет на женскую работу. Поминали предков.
7 декабря - Екатерина. Гадание на любовь.13 декабря - Гадали на любовь. Заговоры, ворожба на огонь и дым (любовные).
19 декабря - НИКОЛА. Гуляли, пили пиво. Не грех было и лишнего выпить, когда в закромах достаток: «Наниколился!»
Скопировала себе из чужого дневника. Сразу не осилила, чтоб потом дочитать
Наверное, нет на земле народа, который бы не носил своих детей на руках, ведь нашим предкам тоже нужно было заниматься обустройством своего обыта, добычей пропитания. Когда-то очень давно наши пра-пра-праматери использовали перевязь, в которой носили своих малышей. Сначала их делали из шкур убитых зверей, а затем из ткани. Жизненная сила и мудрость этой традиции подобна чуду - ведь она дошла до наших времен, несмотря на то, что ее истоки уходят глубоко корнями в толщу лет и берут начало на заре зарождения человечества.

Появление простейших средств для ношения младенцев сыграло значительную роль в развитии человеческого рода. Эта своего рода "технологическая революция" свершилась около 50 тысяч лет назад, и дала возможность матерям носить не только пищу , но и своих детей. Подобные инновации значительно улучшили жизнь кормящих матерей и способствовали расширению заселенных земель человечеством.
Среди кочевых и оседлых племен, занимавшихся земледелием, развитие слингоношения шло разными путями. Матери из кочевых племен обычно оставляли своих детей с кем-либо, кто мог о них позаботиться, так как "налегке" им было проще добыть достаточно еды. Для женщин из оседлых племен, работавших на полях или занимавшихся собирательством, было гораздо проще положить малыша рядом с собой либо нести его на себе. Интересно, что среди таких народов ребенка могла носить не только мать, но другие, например, старшие дети или женщины в возрасте, в то время как мать обычно работала неподалеку. Женщины, занимавшиеся помолом зерна и приготовлением пищи, обычно держали детей при себе - либо рядом в люльке, либо привязывали на спину неким подобием слинга.
Существенное влияние на развитие слингоношения оказали климатические условия. Они отразились не только на толщине используемых перевязей, но и на частоте их использования. В жарких странах матерям приходилось очень часто кормить своих малышей грудью, вплоть до нескольких раз за час, для того, чтобы предотвратить обезвоживание, которое было тогда одной из самых частых причин младенческой смертности. Поэтому мать была вынуждена носить на себе малыша. В других культурах женщины весь день работали на полях, оставляя своих малышей с кем-либо из членов семьи. Отсутствие матери в течений дня младенцы компенсировали частым кормлением ночью. Существует предположение о том, что в более холодных регионах грудное вскармливание могло быть организовано со столь длительными перерывами в связи с отсутствием потребности в больших количествах жидкости. У матерей не было необходимости постоянно носить при себе детей, они привыкали к длительным перерывам между кормлениями, и поэтому вместо тканевых перевязей, женщины перевозили детей в колыбелях, гамаках или санях.
Одно из самых древних изображений лоскутной перевязи для ношения детей относится ко второму тысячелетию до нашей эры.

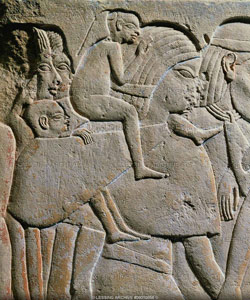
На барельефе изображена женщина с двумя детьми на плечах, один из них находится в слинге. Это рельеф из гробницы Хоремхеба, фараона Древнего Египта второй половины 14 века до нашей эры, последний из XVIII династии. Барельеф найден в гробнице Хоремхеба в Саккаре, Египет.

Есть и еще одно изображение лоскутной перевязи для ношения детей. Оно относится к восьмому веку до нашей эры. Барельеф был обнаружен в гробнице Монтуэмхета, верховного жреца бога Амона, в западной части Фив.
В то время (примерно около 720 года до н. э.) в Египте фактически правили женщины - "жены бога" (дочери фараонов). И, конечно, около слабой женщины всегда оказывался верный друг. При жене бога Нитокрис возвысился жрец Монтуемхат, ставший фактическим властелином Фив. Это в его гробнице были найдены изображения быта женщин, и в частности, интересующий нас рельеф с изображением слинга.
Средние века: от слинга к коляске.

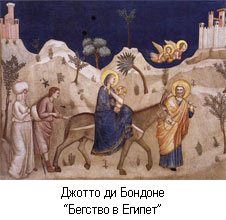
Последующие упоминания о слинге в нашем понимании этого слова приходятся на начало 13века, преддверие эпохи Возрождения. На фресках капеллы дель Арена в Падуе (1304-1306) флорентийский художник и архитектор Джотто ди Бондоне (ок. 1266 или 1276-1337) изобразил сцены из жизни Христа и Богоматери. На некоторых из них запечатлен бегство в Египет святого семейства.
Художник определенно учел особенности одежд того времени, и для него было очень естественным, что Мария несет младенца на себе.
 В книге, посвященной средневековой миниатюре (Англия, 13 век) было найдено изображение Христофора, несшего в перевязи ребенка. (Прим: от греч. Χριστοφορος - носящий Христа) - святой мученик, почитаемый католической и православной церквями).
В книге, посвященной средневековой миниатюре (Англия, 13 век) было найдено изображение Христофора, несшего в перевязи ребенка. (Прим: от греч. Χριστοφορος - носящий Христа) - святой мученик, почитаемый католической и православной церквями).
Изображение женщин, несущих младенца в перевязи, мы находим и позднее: в полотнах 16 века итальянских живописцев Пеллегрино Тибальди и Андреа Ансальдо.



Сохранились изображения женщин в традиционных сельских костюмах, с любовью глядящих на детей, которых они несут в перевязях. К примеру, Рембрандт запечатлел женщину с ребенком, привязанным к её спине (17в). В сельской местности для ношения детей использовались не только лоскутные перевязи - некоторая верхняя одежда предполагала конструкцию, позволяющую носить в ней ребенка легко и удобно.
Прототипы подобных перевязей и одежды можно найти в культуре практически всех народов. На Руси детей нередко носили в подоле, платках, просто перевязях или даже плетеных коробах. Помните известную фразу "принести в подоле"? В некоторых регионах (в частности, Смоленская обл.) подолом называли не только низ платья или юбки, но и особый вид передника, в котором можно было носить младенца. Ношение ребенка в подоле было обычным делом, с ним ходили в поле, в лес по грибы и ягоды. Старшие девочки часто носили младших детей на бедре.


Фото с http://community.livejournal.com/slingomamy/. Автор Екатерина Полянская, фото Татьяны Тактаевой.
Многие народы Африки, Азии, Южной Америки и поныне носят малышей на себе в различных приспособлениях, а, к примеру, у эскимосов есть особая одежда -амаути, парка для ношения малыша.
Многие сегодня чрезмерно идеализируют прошлое, считая, что матери были чуткими ко всем потребностям своих малышей, но это не так. Существует много исторических свидетельств тому, что за исключением отдельных культур, например Yequana в Венесуэле, благополучие детей занимало достаточно низкое положение в списке жизненных приоритетов. Эти тенденции можно было проследить как среди богатых, так и бедных, и в Европе и в Азии . Именно поэтому ношение детей в отдельных культурах не было распространено в течение многих столетий.
Одной из причин торможения развития слингов стало, как ни странно, пеленание. Оно практиковалось древними евреями, греками, римлянами, и было популярно в Европе и Японии вплоть до средневековья. В Англии и Америке пеленание было повсеместно распростанено вплоть до 18-го века, а во Франции и Германии до 19-го века. Спеленутых младенцев подвязывали к деревьям или вешали на какой-либо крюк, где они могли висеть часами, в то время как их матери работали. Спеленутые малыши какое-то время плакали и выражали свой протест, но потом смирялись, что было на руку их родителям. Ведь теперь выполнить нужный объем работы было значительно проще. В период господствования этих тенденций идея слингоношения была основательно забыта и практически канула в лету.
Помимо этого, в ХIХ веке в высших слоях общества складывается особая идеология воспитания, пропагандирующая дистанцию и отчужденность в отношениях родителей и детей с целью не избаловать ребенка и подготовить его к тяготам жизни. Некоторую роль в этом сыграло появление колясок. В 1840г. для английской королевы Виктории была создана коляска, и теперь королева могла сама гулять с ребенком, без необходимости нести ребенка на руках - работы, достойной кормилицы. Мода на коляски стала активно распространяться. Женщинам захотелось быть «не хуже чем королева». Отсутствие необходимости заботиться о ребенке стало признаком состоятельной и благополучной семьи, количество прислуги которой позволяет растить ребенка. Таким образом, няньки с детскими колясками заполнили улицы и парки городов, где строительство дорог и улиц шло быстрее, чем в сельской местности. И детская коляска стала признаком огромного расстояния, разделявшего ребенка и мать высших сословий.
Примерно тогда же появилась мода на отдельные кроватки и отдельные спальни для малышей. Бурное развитие промышленности привело к появлению красивых спален, кроватей, и наличие отдельной спальни для ребенка стало символом высокого благосостояния семьи.
Слингоношение в цивилизованных странах было практически забыто, и если слинги где-то и использовались, то, видимо, в каких-то сельских глубинках, а также в малоцивилизанных странах и различных племенах и народностях, ведущих приближенный к естественной природе стиль жизни.
Возрождение слингоношения в цивилизованных странах.
Возрождение традиции носить детей в перевязях началось во второй половине ХХ века. Его первоистоки, видимо, следует искать в растущем интересе к социальному быту малоцивилизованных племен и народностей Африки, Тибета и др. Появились сравнительные исследования различных параметров развития детей, живущих в условиях цивилизации и в условиях, приближенных к естественной природе.
Франция. В 1956г. француженка Марсель Же Бер проводила исследования в Уганде и получила неожиданные результаты. Оказалось, что по уровню психического и физического развития маленькие африканцы из бедных семей в первые годы жизни намного обгоняют европейских детей (позже маленькие европейцы догоняют их благодаря достижениям цивилизации). И чем младше был ребенок, тем больше разрыв в показателях. Как выяснилось, причиной этого явления стала разница в стиле воспитания ребенка европейской и африканской мамой. Мама-африканка не держит малыша в кроватке, не возит в коляске и не сажает в манеж. С рождения малыш находится на спине у мамы, привязанный к ней платком или куском материи. Ребенок познает мир, видя то, что видит мать, постоянно слыша ее голос, он участвует в ее жизни, засыпает и просыпается вместе с ней. Благодаря близости к маме малыш более спокоен и получает богатый материал для развития всех органов чувств, что приводит к ускорению темпов психического и физического развития.
Америка. Чуть позднее американские педиатры, родители восьмерых детей, Уильям и Марта Серз присутствовали на конференции с участием родителей из многих стран мира, где они побеседовали с двумя женщинами из Замбии, носивших своих детей на лямках, предусмотренных национальной одеждой. Серзы заинтересовались, почему в Замбии принято большую часть дня носить детей с собой? Одна женщина ответила: "Это облегчает жизнь матери". А другая добавила: "И для ребенка так лучше". В 1985 году Серзы начали исследование, стремясь обосновать положительные эффекты, связанные с ношением ребенка.

У. и М. Серз: "Перепробовав множество способов ношения детей и приспособлений для этого, нагуляв много миль со своими собственными детьми и наблюдая за другими родителями мы поняли, почему в западных странах у матерей не принято носить на себе детей: просто им неудобно пользоваться имеющимися приспособлениями. У других же народов детей носят, применяя длинный лоскут, конец которого в виде лямки перебрасывают через плечо. Такой лоскут выглядит как часть национального одеяния, а часто и является таковым." В результате нескольких лет изучения разных конструкций и всевозможных приспособлений, поддерживающих ребенка Серзы пришли к мнению, что слинг именно такой конструкции наиболее удобен и прост в обращении.
Несколько лет назад в США традиция носить малышей в перевязи удостоилась особой чести: она вошла в "золотой запас" Америки в буквальном смысле этот слова. Речь идет о так называемом "золотом долларе США", на котором изображена Сакагавеа (Sacagawea) - индейская женщина из племени шошонов, которая, неся собственного сына-младенца на спине, прошла тысячи миль с первой трансамериканской экспедицией Льюиса и Кларка (1804-1806е года) от Западного до Восточного побережья Северной Америки и обратно.

Сакагавеа оказалась очень полезной экспедиции. Ее сила духа перед лицом опасностей и лишений позже стала легендарной. Присутствие индейской женщины и ребенка в экспедиции помогало улучшить отношение к отряду со стороны индейских племен и Кларк, один из руководителей экспедиции, нередко говорил, что "женщина в отряде мужчин - символ мира". (Полный текст истории о Сакагавеа здесь).
Германия. История детской перевязи DIDYMOS (Германия) начинается в 1971 году с двух близнецов - Лайзы и Тины (didymos - "близнецы" в переводе с греческого). Эрика Хоффман, создатель всемирно известной слинго-марки Дидимос, и мама близнецов, в один прекрасный день устала от горы невыполненной работы по дому, и решилась привязать к себе своих малышей, как это всегда делали женщины в других частях света в течение уже многих столетий. Ее давно захватывали истории о матерях из дальних стран, легко выполнявших свою повседневную работу, примотав к себе ребёнка. У Эрики была перевязь из Центральной Америки, но поскольку она казалась ей слишком экзотичной, она поначалу прятала её в комод. Тем не менее эффект превзошел все ее ожидания, она стала успевать и сделать дела по дому, и пообщаться с детьми. Эрика разработала фирменную модель слинга-шарфа, который получил название Дидимос. Сейчас шарфы "Дидимос" по праву называют "роллс-ройс среди слингов". Они сделаны из специальной жаккардовой ткани, которую сам "Дидимос" и ткет.
В разных странах мира многие мамы, психологи и врачи начали использовать и рекомендовать ношение детей в лоскутных перевязях, организовывать производства различных видов перевязей для ношения ребенка. Вошло в обиход слово "слинг", которое произошло от англ. to sling - вешать через плечо и стало обозначать «перевязь, используемая для переноски ребёнка».

Еще пару десятков лет назад в России была совершенно иная ситуация со слингами, и даже мам с кенгурушками все прохожие провожали удивленными взглядами и комментариями. О слингах тогда еще никто ничего не знал, разве что только с англоязычных сайтов и через знакомых из-за границы. Толчок к развитию слингоношения в России дало активное распространение идей о естественном/сознательном родительстве ("стиль жизнеустройства и поведения родителей, наиболее отвечающий естественным потребностям ребёнка" - Wikipedia).
Один из самых первых слингов в России появился в родительской школе "Драгоценность" (Москва) у директора школы - Постновой Юлии. Этот слинг был подарен Юле из-за границы и передавался от мамочки к мамочке по наследству. Так получилось, что на занятия в "Драгоценность" сначала в период беременности, а потом со своей дочкой, ходила Попова Елена - впоследствии первый производитель слингов в России (слинги "Баюшка"). Именно там она впервые и увидела слинг.
Елена: "Меня тогда очень поразила простота и удобство слинга одновременно. Я сшила по памяти слинг в подарок своей сестре, а потом меня попросили шить слинги для "Драгоценности". При всей простоте конструкции, запомнила я ее весьма приблизительно, поэтому в процессе шитья родилась фактически своя конструкция на заданную тему. С тех пор она сильно изменилась и потихоньку совершенствуется, благодаря нашему уже многолетнему опыту и советам мам, которые слингами пользуются".

Так "Баюшка" стала первым российским производителем слингов на кольцах. В 1998 году появился сайт в интернете, а через 2 года работы появилось само название "Баюшка" и логотип. В 2001году в журнале "Лиза - мой ребенок" была опубликована первая статья о слингах "Баюшка". Это была первая в России статья о слингах.
Примерно в то же время в России появилась чудесная книга Уильяма и Марты Серз "Ваш ребенок от 0 до 2-х лет". Сайт "Баюшки" и книга Серзов на тот момент были единственной русскоязычной информацией про слинг.
Многие матери, узнав о таком способе ношения детей, были полны сомнений - а это удобно? А я такого нигде не видела! А там же ребенок скрючен?! А как на меня люди посмотрят? Однако попробовав, сомнения рассеивались, ведь чувство свободы и комфорта для мамы и малыша открывало совершенно новые горизонты в их совместной жизни.
Eлена: "Сначала шила слинги я сама, потом одна надомная швея, потом две, потом три. Сейчас шьем в ателье под городом Владимиром, очень прекрасное, спокойное место. А обстановка, в которой вещь изготавливается, конечно, влияет на ощущение от вещи. А дети, они же чувствительные! И это хорошо. У нас стали появляться представители в разных городах России. Я заметила, что в больших городах новый способ ношения воспринимался быстрее и более охотно. Удобно маме - значит хорошо, я буду пользоваться. В маленьких городах, как ни удивительно, было больше сомнений и мамы больше стеснялись носить ребенка таким необычным способом".
Распространение слингов подхватили семья Хрусталевых из Димитровграда. Первый их слинг был сшит по образу и подобию слинга, увиденного на маме многодетной французской семьи.
Вот что об этом говорит Александр Хрусталев: "Мы эсперантисты, т.е занимаемся языком международного общения эсперанто. В 1999-м году мы были на Всемирном Молодежном Эсперанто-Конгрессе в Венгрии, куда съехалось довольно много народу из разных стран. В числе прочих была многодетная семья, где был русский муж и француженка - жена. Младшего ребёнка они носили в слинге. А мы и слова-то такого тогда не знали, называли ЭТО кенгурушкой! Поскольку в том году, буквально через месяц у нас было запланировано зачатие ребёнка (и оно с успехом случилось в нужный срок, чтобы родился "Близнец" по гороскопу), мы заинтересовались этой приспособой. Пользуясь отсутствием языкового барьера мы насели на них с расспросами, что это да как, удобно ли, и т.д., перерисовали для себя примерную выкройку, и сшили потом такую "кенгурушку" себе. Ну а потом, родив ребёнка, и сполна осознав, как удобно этим пользоваться, мы поставили производство слингов на поток. Вначале понемногу, по 5-10 слингов в месяц, постепенно набирая обороты, год за годом мы стали одними из родоначальников наших российских слингов.
Долгое время в Рунете были только два производителя: http://sling.ru и http://baby-sling.ru (или, вначале, наш первый сайт на бесплатном хостинге - sling.by.ru). Так появилась "Берегиня". Ну а потом производители слингов расплодились как грибы после дождя, и сейчас их в русском интернете - несколько десятков".
В республиках СНГ также стали открываться самостоятельные производства, т.к. пересылать слинги и деньги через границу было долго, дорого и неудобно. По подсказке Елены из "Баюшки" ее подруга стала делать слинги "Макошь" в Киеве на Украине, открылись производства в Белоруссии и Молдавии.
В 2004году появились питерские слинги Velina. Диана (основатель) - "модница" :), ее не устраивали слинги, которые были на рынке, и она стала шить красивые и стильные слинги, а также слинги к вечерним платьям. Первоначально Velina была представлена сайтом www.babysling.ru, сейчас она гордо именуется ООО "Velina", и в ее ведении три сайта.
В 2004 году летом была основана "Оранжевая Мама". Cначала она занималась распространением "Берегинь" в Зеленограде и Москве, а в октябре 2004 года была закуплена первая партия Баюшек на продажу. Тогда же "Оранжевой мамы" появился сайт, ныне известный многим мамам как сайт естественного, гармоничного родительства с симпатичным лозунгом: "Дети - это весело!".
Марианна, основатель "Оранжевой мамы": "Я очень уважаю книгу Ледлофф, и много бывала на форуме ледлоффцев, в основном там общаются американки. Они часто писали про слинги-шарфы, и я поняла, что это очень удобно и надо тоже такие делать. Так, зимой 2005 года в России появились первые слинги-шарфы. Тогда же, в декабре 2004-январе 2005 года начался импорт Дидимосов в Россию. Это сделала Оксана Морару. Так что российское шарфопользование началось с Дидимоса и Омамы, и мы так и продолжаем дружить".
Первыми покупательницами стали рожановские мамочки, там же общались Марианна и Оксана, обсуждали и делились способами ношения. В июле 2005года слинги-шарфы появились в Питере. Впервые на российском рынке "Юджи" представила бязевые и флисовые модели. А затем слинги-шарфы стали завоевывать все больше симпатий и начали появляться и в других городах России.
Идея футболок для кормяших мам возникла у Оксаны Морару, и она предложила "Оранжевой маме" их шить. Первая партия вышла осенью 2005 года. В 2006 году появились "Мамины Секреты", а потом и все остальные.
Так постепенно информация стала распространяться, стало появляться все больше сайтов о слингах, производителей, и сейчас мы уже видим огромное разнообразие средств для ношения малышей: слинги с кольцами, шарфы, май-слинги, слинги-карманы, всевозможные физиологичные рюкзачки. И теперь многие мамы озабочены другой проблемой: как выбрать самый идеальный слинг:)...
Автор - Корнилова Алла
Томск, 2007-2009.
Адоньева С. Б. Материнство: мифология и социальный институт
Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут,
и знание упразднится.
Ап.Павел. Коринф.1.13.
В предисловии к русскому изданию книги Бодрийара «Америка» (СПб., 2000) Б.В.Марков, в частности, пишет: «Люди перестали считать секс и политику главными проблемами, освободились от "зова пола", от власти идей и тирании вождей. Они лишились как полового, так и государственного инстинкта. Родина, мать, жена, дети - все это перестало быть чем-то, что раньше люди берегли и защищали преданно и безрассудно».
Откуда пафос в последних словах этого отрывка? Что из перечисленного автором - родина, мать, жена и дети - относится к государственному, и что - к половому инстинкту?
Обратим внимание на то, что названые чувства квалифицированы как инстинкты, то есть то, что не воспитывается, а получено генетически.
24 ноября 2006 года, в субботу, редкий день, когда можно поспать подольше, мой десятилетний сын лишил меня сладкого утреннего сна громким радостным криком: «Вставай, сегодня - день матери!» Оказалось, что в школе пропагандисты «Единой России» рассказали о празднике матерей и выдали детям голубые шарики с соответствующим поздравлением. По этой причине он не завтракал неделю, копил деньги мне на подарок по этому случаю. И естественно, когда столь важный день настал, не смог утерпеть. Моему возмущению не было предела. Почему какая-то политическая организация считает себя вправе вмешиваться в мою семейную жизнь и выражать мне благодарность за мои действия, к которым она никакого отношения не имеет? Она - кто? Благодарный отец? Или она - государство, которое решило, что я произвела и воспитываю своих детей для него? Почему политическая организация использует для своего пиара моих наивных и доверчивых детей? Справившись со своим негодованием и поблагодарив ни в чем не повинного ребенка за подарок, я решила поинтересоваться, что же это за праздник. День матери учрежден приказом Президента России 30 января 1997 года:
«В России выделять День матери стали сравнительно недавно. Хотя по сути это - праздник вечности: из поколения в поколение для каждого мама - главный человек. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, заботливость, любовь» (газета «Резонанс», г.Югра, 28.11.98)
«Приятно сознавать, что государство официально признает высокое значение материнства. Первый раз отмечали День матери России в 1997 году. Мама! Слово это особое, оно рождается вместе с нами, сопровождает нас в годы взросления и зрелости. Мать нужна детям, ведь в них продолжается наша жизнь, поэтому материнская любовь безгранична. У мамы доброе сердце, ласковые руки дарят миру самое дорогое, что есть на земле - это дети (сайт псковской областной библиотеки, 26.11.06)
В этих текстах представлен целый ряд тезисов, одни из которых фиксируют определенные культурные императивы, другие являются пустыми риторическими фигурами.
Культурные императивы:
Лучшие качества женщины - доброта, заботливость и любовь.
Как получен этот рейтинг?
Материнство - условие открытия лучшего в женщине. Бездетные хуже по определению?
Главный человек для каждого <человека> - мать. А отец, а друг, а жена/муж, а дети? А наставник, наконец?
Пустая речь:
День матери - праздник вечности. - ?
Ласковые руки <матери> дарят миру детей. - ?
Мать нужна детям, ведь в них продолжается наша жизнь.- ?
Материнская любовь безгранична. - ?
Перед нами - тексты-внушения. Их гипнотическое воздействие обеспечивается сочетанием бессмысленных фрагментов речи и установочных высказываний. Последние - установочные высказывания - обнаруживают существующие в обществе культурные императивы. Социологическим аргументом в доказательство их существования могут служить данные, приведенные Ольгой Здравомысловой :
«Желание иметь детей не всегда связывается с созданием семьи. Так, 41% шведов и 40% финнов полагали, что «ребенку не обязательно иметь обоих родителей». В России 53% опрошенных высказали позитивное отношение к образу жизни матери-одиночки (больше, чем в среднем по всем странам, где этот показатель составляет 44%). В некоторых европейских странах упала значимость наличия детей в семье, хотя для большинства людей она остается по-прежнему высокой. В России… чаще, чем в других европейских странах, встречается мнение, что жизнь женщины полноценна только тогда, когда у нее есть дети. Так считают 83% опрошенных россиян. (Для сравнения: в Голландии эту идею поддерживают лишь 7% респондентов.)»
Статистика социологических опросов, как мы видим, показывает, что мать в России, действительно, - главный человек, а также и то, что материнство - условие полноценности. Важно отметить и то, что и тексты и опросы выявляют специфическую российскую ситуацию.
Попробуем разобраться в этой политически, социально и эмоционально накаленной теме. Какую форму отношений внутри семьи создает (или воссоздает) и транслирует последнее советское и первое постсоветское поколение? В частности - в чем состоит традиция, и какова новация в области отношений матери, отца и ребенка?
Относительно крестьянской традиции мы знаем достаточно много. Собирая в русских деревнях фольклор, мы записывали, естественно, и его контекст. И поэтому, узнавая о заговорах, которые должны были защищать младенца от порчи и болезней, мы многое узнавали и о том, как строились отношения в крестьянской семье по поводу и вокруг детей. Так известно, что молодая мать посвящалась в магическое знание, направленное на защиту ребенка, по потребности - она участвовала в магических действиях, целью которых было здоровье ребенка. Организатором таких актов была старшая женщина - свекровь, повитуха (старуха, которая «вела» роды). Вместе с тем уход за младенцами был в равной степени делом матери и бабки-большухи (свекрови). Ответственность за благополучие и здоровье детей семьи брала на себя старшая. Молодые матери брали с собой грудничков на полевые работы. В остальных случаях - оставляли детей на свекровь. Обязанность молодых матерей - подчинение мужу, большаку (отцу мужа) и большухе. Ответственность за пестование, воспитание и здоровье детей - на хозяевах (отце и матери мужа). Приведу несколько рассказов, записанных от деревенских женщин старшего поколения:
«Как я вышла замуж? Мы шли из Шубача с праздника Обульской божьей матери. Гуляли столько годов. Замуж вышла, пришла к свекровке жить, она меня хорошо приняла. Я была бедная, он бедный. У него рука правая не отгибалась, с войны пришел. Я ее на «ты» называла. Ребята стали подрастать, купили домик. Потом муж перевел бороны в большие хоромы. /Умер?/ Совсем молодой. Я четырех во хлеву родила, со скотиной. Некогда. /А послед, пуповина?/ Мама у меня была, <мамой рассказчица называет свекровь> я лежу во хлеве, да принесу. Мама блины пекет. «Мама! Возьми ребенка» - «Господи,благослови ребенка, Надька». На печку кинет». (Вологодская обл., 2001 г., женщина 79 лет).
В случае болезни ребенка в магическом лечении участвуют двое - мать и «матка», свекровь. Свекровь находится в доме, мать с младенцем на руках «на вечерней заре по окнам с ним ходит. «Первая заря Марья (подходя к первому окну), вторая заря Дарья (у второго), третья заря Пеладья (у третьего), не смейся, не галься над моим дитем. А смейся и галься на дне речном…»
От свекровей женщины учились лечебным навыкам:
«От вывиха, дак ко мне уж ходят. Сколько народу уж приходило, спасла. Нога либо рука - вывих. <...> Ну, у меня свекровушка умела править, и я все смотрела, как она
правит. Там, к ей ходили тожо, править. Ну, он править... А потом уж мне, этот, гораздо, вот такие слова надо дать, дак. Дак вот слова, от шшемоты, чтоб не шшемило... Вот... Колотье, шшемота, иди в темные леса, в темное болото, в темный лес, на зеленый мох, на белую березу, на гнилую колоду, там боли и шшеми, а у такой - то не боли. Вот и все. Более ничего, ничего не сказывают - то. Вот покрешшу и шшемота уходит и нога, там, поправляется».(Вологодская обл.2002, женщина 67 лет).
Восхождение женщины в «матерую» позицию, это называлось «встать на большину», происходило, когда свекровь переставала справляться с кухней, скотом и хозяйством. Вставали на большину лет в сорок пять, а то и позже. Раньше это могло произойти в том случае, когда семья выделялась и обзаводилась отдельным домом и хозяйством. Но и в этом случае невестка обращалась в первую очередь к свекрови в случае болезни детей, проблем со скотом, или собственном нездоровье. А также и в том случае, если была беременна. Роды принимала сама свекровь или же, если она была еще молода («плодна»), приглашала сведущую старушку.
Воспоминания, выносимые из детства русских детей - «материнские» руки - в действительности были руками бабушки и прабабушки. Руки собственной матери становятся таковыми - лечащими, баюкающими и успокаивающими тогда, когда дети вырастают, они баюкают внуков, а не детей. Проще говоря - «руки матери», это руки большухи, старшей женщины. «Матушки» русского фольклора - это матери взрослых дочерей и сыновей.
Класс матерей-большух, женщин-хозяек, матерей взрослых детей - главная воспитывающая и контролирующая сила деревни. Старухи (матери матерей, сложившие с себя «большину»), сидя по завалинкам - приглядывают, докладывают матерям, а те карают своих чад или обращаются с требованием кары к соседкам-большухам. Объект их контроля - дети, парни, девушки и молодые женщины. Если встает вопрос о неправильном поведении мужика (женатого мужчины), большухи обращаются к его отцу или к старшему мужскому сообществу через своего мужа-большака. В любом случае, надзор - функция старших матерей.
Такой, общественно-материнский, механизм контроля по сегодняшний день сохраняется в деревнях. Он доминировал в «дворовой» культуре советских городов, постепенно заполнявшихся выходцами из деревни. Один из наиболее ярких фактов сохранения традиционных возрастных иерархий в советскую эпоху - «тетеньки» и «дяденьки» детского словаря. Тети и дяди - не родня, но все старшие мужчины и женщины, с которыми ребенок взаимодействует, за исключением тех, чья властная по отношению к детям позиция закреплена институционально - учитель, воспитатель, врач, милиционер. Такому обращению обучали старшие: «Сходи к тете Люсе» - соседке, - «отнеси крышки для банок». - «Тетя Люся, меня мама послала…» Примеры бесконечной детской путаницы, определенной двойным стандартом иерархий - государственных и возрастных - известны каждому: «дяденька милиционер», «тётенька доктор».
«Мы с приятелями дворовыми играли на кладбище. По одной простой причине: там дорожки всегда были просыпаны песком. А больше никакого песка в округе не было. Мы сидели в сторонке на маленькой аллейке и какие-то песчаные города строили. И пришла тетенька в возрасте и нас отругала: "как же можно здесь играть". Это очень запомнилось, произвело громадное впечатление. И я помню, что потом мы даже каких-то детей других гоняли. Это было священное место».
Это - отрывок из интервью, которое было записано в 2001 году от тридцатилетней жительницы Петербурга. Рассказывая о своем детстве, она переключилась на детский язык, в котором «тетеньки» и «дяденьки» - любые взрослые вне зависимости от родства.
Советские поколения сохраняют в своем быту традиционные формы отношений: старшие женщины могут и имеют право поучать и наставлять любых детей (не только собственных внуков). Пенсионерки на лавке, которым подконтрольно все пространство городского двора, хорошо известны нам как по собственному детству, так и по фильмам 50-70 годов.
Чего нет в традиционных крестьянских преставлениях о материнстве и детстве, так это представления об особой ценности, «святости» материнства и особой ценности детей. Бездетность - показатель неблагополучия семьи, возможной порчи. Плодовитость обеспечивала увеличение земельного надела семьи (надел в царской России выделялся на мужскую душу), а также возможность выделения семьи в отдельное хозяйство. Смерть младенцев переживалась как горе, но не как трагедия. Беременность и материнство, акт рождения, переживались как особое, опасное в смысле особого контакта с потусторонним миром, состояние, но не как «святое». Роженица нуждалась в защите и попечении: сроки родов скрывались от посторонних, родившую не оставляли одну. Младенца и молодую мать старались не выводить на люди как можно долго и т.д. О святости, особой благодатности материнства как применительно к деторождению, так и применительно к воспитанию детей не упоминает ни один из известных мне источников русской традиционной культуры. Скорее можно говорить об особой мистической ответственности матери за своих детей: «материнская молитва со дна моря достанет», материнское проклятие неизбежно влечет беду, оно - самое сильное.
В контексте христианской традиции чадородие и чадолюбие - естественное человеческое свойство, святость женщин - в предпочтении Боголюбия чадолюбию .
Тем не менее, рождение и воспитание детей - практика, определяемая биологической природой человека. Эта практика - базовая, она связана с существованием популяции как таковой. Это дает основание предположить, что организующие ее социальные институты принадлежат к корневым механизмам воспроизводства культуры. И, естественно, они тесно связаны с другими основополагающими социальными институтами общества, посредством которых осуществляется межпоколенческая трансляция отношений и смыслов.
Этот вопрос может быть поставлен и в ином ключе, требующем уже не социальных, а мифологических (или идеологических) определений:
Что происходит с человеком, когда он входит в мир?
Что происходит с человеком, когда он становится воротами, через которые другой человек входит в мир?
И, наконец, что происходит с человеком, когда в его мир прибывают люди, происходящие от семени его?
Приведу в качестве примера такой постановки вопроса отрывок из интервью с М.Эпштейном по поводу русского издания его книги «Отцовство». В этом отрывке отчетливо наблюдается различие позиций спрашивающего и отвечающего. Интервьюер апеллирует к культурным заготовкам («дети продолжают жизнь отцов»), в то время как автор книги описывает индивидуальный опыт:
«это дневник отношений отца с еще не родившимся ребенком и затем - с новорожденной дочерью, притча об отношениях творца и творения, о трагедии отчуждения. Завершается книга моментом, когда дочь сказала первое слово, и ей перешло присвоенное мной в период ее молчания право на самовыражение. Работая над этой книгой, я учился любить других, по-новому понял взаимоотношения между людьми. Мне кажется, суть заповеди "люби ближнего твоего, как самого себя" означает: полюби ближнего, как отец любит свое дитя. Я учился различать, какими окружающие меня люди были в детстве - а люди, в сущности, так и остаются детьми. Учился понимать и прощать.
- У вас четверо детей, причем трое мальчиков - вы видите в них продолжение самого себя, реализацию своих несбывшихся надежд?
- Когда жена была беременна первым ребенком, мы ждали мальчика. Представляли его худым, одухотворенным, с большими грустными глазами. А родилась упитанная веселая девочка. Это был знак: нельзя вкладывать в ребенка свои представления о должном. Мы даруем детям телесное бытие, а они нам - принадлежность бессмертному роду. Рождая, мы обрекаем их на смерть, а они нам дают продление, жизнь. Дочь воплощает то прошлое твоей жены, которое тебе не принадлежит - ее детство, и любовь отца к дочери как бы замыкает любовный цикл. Поэтика "дочернего" представляется мне частью культа Прекрасной дамы, и ему в мировой культуре принадлежит будущее».
Осмысление акта рождения требует определенного сюжета, причем, как мы видим, для участников акта рождения это могут быть разные сюжеты. Но они непременно должны быть. Наличие сюжета есть условие для осмысления собственного опыта. Он необходим, чтобы участники посвятительного ритуала, коим в социальном плане является событие рождения, поменяли свой статус: плод стал человеком, женщина - матерью, а мужчина - отцом. Для института советского брака такие стереотипные сюжеты назвать легко: они жили долго и счастливо и периоды их жизни отмерялись хрусталями, серебром и золотом юбилейных свадеб, она/он нашла/нашел свою половину и т.д. Такого же рода сюжеты, позволяющие превращать отцовский, материнский, дочерний, сыновний опыт в биографию, в прошлое, я и стала искать. Одним из первых открытий на этом пути стало то, что императив беззаветной материнской любви, воспринимаемый массовым сознанием как абсолютная, «непреходящая» ценность, в действительности - очень новый: он - продукт советской эпохи.
Риторика материнского совершенства, абсолютности материнской любви вошла в речевой багаж советского дошкольника и школьника и запечатлелась там на всю жизнь.
Песенка в мультфильме про слоненка-мамонтёнка, преодолевающего немыслимые преграды, в поисках «единственной мамы на свете», спетая в 70-х Румянцевой, вызывает неизменное умиление. Песню «Пусть всегда будет солнце» А.Островского (стихи Льва Ошанина), а именно - волшебные слова «пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» - знают все.
Мифология материнства разрабатывалась постепенно, официальными и неофициальными, письменными и устными текстами, высоким искусством и искусством массовым. «Мать» Максима Горького изучалась советскими школьниками с 1919 года. Мать Павла, в которой биологическое кровное материнство переродилось в духовную связь, мать, которая разделила жертву сына ради новых отношений, эту мать знают все советские поколения . Родина-мать - в виде монументов и плакатов, образ матери в живописи Сергея Герасимова, Александра Дейнеки и Федора Антонова , мать Ульянова в портретах и школьных учебниках по истории, и т.д. и т.п.: - варианты одного мифологического образца, общий in-put школьного образования 60-80 годов.
Идеология материнства была официально задокументирована в Законе об охране материнства и детства. Мифология материнства административно воплощена в привокзальных комнатах «матери и ребенка». В литературной традиции культурный императив материнства реализуется в сюжете любви матери к сыну и сына к матери. Тема святой материнской любви именно к сыну оказывается сквозной для текстов самого разного рода - литературных, политических, блатных, фольклорных и проч. Пример литературного регистра:
Как ступлю на порог,
Не поняв, не решив:
Ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив?
Он говорит в ответ:
Мертвый или живой,
Разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.
И.Бродский. Натюрморт(10), 1971)
Пример фольклорного регистра:
На пороге встретишь ты, родная,
С белою седою головой,
и платочком слезы утирая, дорогая мама,
Скажешь: "Сын, вернулся ты домой".
( Уличные песни / Сост.А.Добряков. М.1997.С.100)
Увяли розы, умчались грезы,
И над землею день угрюмый встает.
Проходят годы, но нет исходу
И мать-старушка слезы горькие льет.
(Там же, С.332)
Тема, заданная фразеологизмом «родная мать не узнает», многократно разрабатывалась в советской литературе и публицистике. Каждый советский школьник помнит это по рассказу А.Н.Толстого "Русский характер", впервые опубликованному в газете "Красная звезда" 7 мая 1944 г. и в 1951 г. включенному в школьную программу по литературе. Только мать узнаёт сына в изуродованном ранением человеке, остановившемся в доме. Отношения сына и матери - из редких, не образующих конфликта в современных балладных сюжетах, основными темами которых служат конфликты, разрушающие «приватные» человеческие связи .
Общественная практика, разрабатывающая миф о святом материнстве и конструирующая на его основе конкретные стереотипы поведения, формировала необходимые для этой цели социальные институты: детские ясли (название учреждения дает однозначную сноску на евангельский источник!), детские сады. К таковым можно отнести женские консультации, работавшие в тесном сотрудничестве с другими формами контроля - милицией и отделами кадров, родильные дома - государственные учреждения опеки (надзора) за процессом посвящения в материнство.
Посвятительная задача институтов родовспоможения - женских консультаций и родильных домов - состояла в том, чтобы привести «лиминальную персону» (предварительно разрушив усвоенный ею прежде набор поведенческих стереотипов) к соответствию с образцом. Решение этой задачи осуществлялось посредством определенных, типичных для многих культур, ритуальных акций: лишение имущества и статусных символов. Принудительное изъятие всех личных вещей при поступлении в родильный дом, мотивированное правилами гигиены, обязательное снятие нательного креста и обручального кольца на момент родов, - эти действия оставались обязательным ритуалом отечественных родильных домов вплоть до начала 90-х годов. К тем же процедурам ритуального унижения можно отнести и облачение в униформу ("казенные" ветхие, не по размеру, белье и халаты), и принудительную наготу - запрет родильницам надевать нижнее белье, фамильярность - обращение к своим пациенткам на "ты" (отличительная черта врачей-гинекологов советских медицинских учреждений), и полную изоляцию, досмотр «передач» и корреспонденции.
Институт родильных домов и женских консультаций советского времени сконструирован по образцу исправительных учреждений. Природа проступка роженицы была непонятной. И тем решительнее она должна была пережить обязывающую мощь происходящего с нею. Зачатие формулировалось как грех, вина, а роды и унижение родильного дома, а как форма наказания за этот грех: «любила кататься - люби и саночки возить», «как трахалась - так не орала» . Родовые муки интерпретировались как наказание за секс, который вменялся роженице в вину акушерами (они же - посвящающие).
Особо страшный женский грех перед советским обществом - внебрачное зачатие. Общественный позор падал на голову матерей, самостоятельно растивших своих детей. И для детей и для матерей в этих обстоятельствах были особые социальные термины - «безотцовщина», «мать-одиночка». Прочерк в графе «отец» метрической карты ребенка был позорным пятном в биографии, поводом для злословия соседей и сотрудников.
Все названное - коллаж представлений о материнстве, наследуемый последним советским поколением, то есть императивы, заданные рожденным в 60-70-е годы.
Социальная машина, посвящающая в материнский миф, была сконструирована из ряда "узлов": литературные и изобразительные тексты, разрабатывающие мифологию материнства, институты родовспоможения, на деле осуществляющие посвятительные ритуалы и фольклор. Ее узлы возникали не сразу, они подвергались модернизации и замене, происходило это в разные годы и по разным причинам. В любом случае, очевидно, что материнский миф и материнский сценарий поколения, рожденного в 60-70-годы, существенно отличался от поколений 40-50-х годов, а тот, в свою очередь - принципиально отличался от установок первых советских поколений.
Различие сценариев жизни, которые использовались советскими матерями разных поколений, в значительной степени определялось идеологическими и социальными изменениями, происходившими в советской истории. Их динамику я и попробую проследить.
«Женщина-работница», первая марксистская брошюра о положении трудящейся женщины в России, была написана Надеждой Крупской в 1899 в Сибири, где она находилась в ссылке вместе с В.И.Лениным. Впервые они была напечатана в типографии «Искры» в 1901 г. в Мюнхене без указания имени автора. В 1905 году - в Петербурге вышло легальное издание книги за подписью Саблиной, и тогда же оно было запрещено. Крупской на ту пору было тридцать лет, матерью она, как известно, не была. Тема возникла из наблюдений над деревенской жизнью, с которой она столкнулась в сибирской деревне (с.Шушенское). Приведу несколько выдержек и этой брошюры:
«Самое большее, если женщина научит сына соблюдать посты и церковные обряды, бояться бога и старших, почитать богатых, научит смирению и терпению… Только вряд ли от этого ее дети станут счастливее и свободнее, станут лучше понимать смысл слов: «все за одного, один за всех», вряд ли будут лучше уметь добиваться справедливости и стоять за правду» .
Речь шла, как мы видим о неправильных программах воспитания, которые, по мнению Крупской задавались в традиционной крестьянской семье. Критика была направлена против обучения детей социальной вертикали - подчинению «старшим», «богу», «богатым». Правильные программы - программы коллективизма: борьба за справедливость, девиз - «один за всех - все за одного». Через полвека английский антрополог Виктор Тэрнер назвал такой тип социальной организации «коммунитас». Форма подобных организаций предполагает горизонтальные отношения «товарищей», «учеников», «братьев и сестер», и их полное подчинение «гуру», наставнику, духовному отцу, лидеру, вождю.
В семье, как заметила Крупская, детей учили «терпению и смирению», то есть - иерархии. Крестьянская семья была организована посредством сложной схемы подчинений. Большак, хозяин, старший мужчина в доме отвечал за семью перед миром - крестьянской общиной и государством, хозяйке подчинялись все женщины дома, дети и неженатые мужчины (сыновья), младшее поколение подчинялось старшему.
Отказывая крестьянским матерям в понимании целей и задач воспитания, Крупская определила суть воспитания, каковой она должна стать для нового общественного строя:
«…мы видим, что в большинстве случаев женщина-работница поставлена в полную невозможность разумно воспитывать своих детей. Она совершенно не подготовлена к роли воспитательницы: она не знает, что вредно, что полезно ребенку, не знает чему и как учить его… Как будет поставлено дело воспитания при социалистическом строе? Мы уже говорили, что социалисты хотят общественного воспитания детей. «Эти ужасные социалисты, - восклицает буржуа, - хотят разрушить семью, отнять детей от родителей!»… Когда говорят об общественном воспитании детей, то под этим прежде всего понимают то, что забота о содержании детей будет снята с родителей и что общество обеспечит ребенку не только средства к существованию, но будет заботиться о том, чтобы у него было все, что необходимо для того, чтобы он мог полно и всесторонне развиваться… Уже в настоящее время в западноевропейских странах существуют так называемые «детские сады»… Дети поделены на группы, и каждая группа занята своим делом. В саду дети роют землю, поливают и полют грядки, в кухне чистят овощи, моют посуду, строгают, клеят, шьют, рисуют, поют, читают, играют. Всякая игра, всякое занятие учит чему-нибудь, а главное, ребенок приучается к порядку, к труду, приучается не ссориться с товарищами и уступать им без капризов и слез… Как непохоже это время препровождение в детском саду на то бесцельное скитание из угла в угол, на которое обречены дома дети, с которыми некогда заняться!»
За два десятилетия до октябрьского переворота высказана мысль о необходимости общественного воспитания детей. Очевидно, что автор видел путь к созданию «новых людей» в социализации детей посредством общества равных («товарищей»). В таком обществе, как это видно из слов Крупской, нужно уступать большинству. Эта схема в последствии, в советское время, стала основной формой организации детей, да и взрослых тоже: группа детского сада или яслей и воспитательница, класс - классный руководитель… Общество равных и гуру, наставник, обладающий исключительной властью.
В числе первых социальных преобразований Октября - реорганизация институтов семьи и воспитания, а, следовательно, и иерархической структуры. Новая идеология «общественных» людей находит свое выражение в конкретном социальном строительстве. 18 декабря 1917 года был подписан декрет о гражданском браке, о детях, и о введении книг актов гражданского состояния. Но на ту, начальную, пору советской власти эти институты очень отличались от тех, о которых мы хорошо знаем по собственному опыту. Это проще всего увидеть не по нормативным документам, а по разъяснениям и статьям в периодической печати, которые призваны были увязывать норму с практикой. Одно из наиболее показательных изданий в этом отношении - журнал «Работница», который выходит с 1923 года. В нем растолковывается новое семейное право, о котором мы узнаем много нового и удивительного.
«Законы сохраняют юридическую форму брака в интересах слабейшей стороны - женщины».
«Семейное право начинается с момента зачатия и рождения ребенка».
«Если брак не записан в Отделе записи актов гражданского состояния, то женщине приходится доказывать, а часто со стороны мужчины встречается обман или легкое отношение, что брак, т.е. половые общения, был и что появившегося ребенка должен в свою очередь содержать и отец, а не одна мать».
Закон требует единобрачия (обязательного расторжения старого брака при вступлении в новый), устанавливает брачный возраст для женщины - шестнадцать, для мужчины - восемнадцать лет, запрещает близкородственные браки, значительно сужая границы инцестуального запрета, по сравнению с традицией дореволюционной. Запрещен брак между матерью - сыном, дочерью - отцом, братом и сестрой («полнородственными и не полнородственными»).
Журнал растолковывает практику нового брака:
«Забеременевшая и не состоящая в зарегистрированном браке женщина имеет право заявить во время беременности или после рождения ребенка в отдел ЗАГС по месту своего жительства, указав местожительство отца. Если в течение двухнедельного срока отец не сделает возражений, ребенок записывается как произошедший от названного отца. В случае, если он не признает ребенка, он подает в суд на мать о неправильности ее заявления… Если отец ссылается на то, что мать имела половые отношения с разными мужчинами, даже в случае правильности сообщаемого, суд постановляет привлечь к уплате всех мужчин, бывших в момент зачатия в отношениях с матерью ребенка».
Первого января 1918 года ликвидировано всероссийское попечительство по охране материнства. Все его имущество было передано Отделу охраны материнства и младенчества при наркомате государственного презрения. Первый комиссар государственного призрения - Антонина Коллонтай: «Для того, чтобы женщина-мать могла работать и от этого не страдал бы ребенок - будущий производитель - необходимо поставить трудящуюся женщину в более благоприятные условия, чем она находилась при капитализме, необходимо разгрузить ее от производительного труда по домоводству и воспитанию детей, переложив эти чисто семейные работы на коллектив» .
Новая власть централизует управление организациями, которые занимаются материнством и детством: «Все обслуживающие ребенка большие и малые учреждения Комиссариата государственного призрения от воспитательных домов в столицах до скромных деревенских яслей, все они со дня опубликования данного декрета сливаются в одну государственную организацию и передаются в ведение Отдела охраны материнства и младенчества, чтобы составить неразрывную цепь с учреждениями, обслуживающими женщину в период беременности и кормления грудью» .
Попечительские организации царской России занимались помощью, советская власть - берет под полный контроль. Вопрос воспроизводства людских ресурсов становится государственным делом. Именно на этой практической закваске всходят советские социальные пироги: педиатрия, как отельное направление науки, образования и социальной практики, система женских консультаций и родильных домов как способ государственного надзора за производительницами, педология и педагогика как отдельные специальности. Взращивать и воспитывать новых людей должны новые специалисты. За это отвечает государство: «Не ограничиваясь формальным равноправием женщин, партия стремится освободить их от материальных тягот устарелого домашнего хозяйства путем замены его домами-коммунами, общественными столовыми, центральными прачечными, яслями и т.п.» .
Из младенческого и раннего детского жизненного опыта поколений советских горожан постепенно изымаются те самые «материнские руки», о которых будут бесконечно твердить массовые тексты. «Материнские» руки пестующих младенцев бабушек заменяются твердыми и ответственными руками специалистов.
Можно заметить, что риторика святого материнства нарастает в обратной пропорции к материнской практике.
Огосударствление детей происходит постепенно. В 20-е годы изъятие родильниц из семьи, проживание их в отдельном доме, а внутри него - отдельно от детей, мотивируется гигиеническими соображениями. Ниже - одно из описаний Дома матери и ребенка 1924 года: «первое отделение - плач, чахлые дети - подкидыши, которые привыкают к искусственному кормлению. Второе отделение - дети, вскармливаемые на молоке матери: веселые, здоровые, чистенькие. Третье отделение: кормящие матери: матери совершенно отдельно от детей, они читают газеты, книги, гуляют. «Ну, разве мы дома сумеем так воспитать детей, вести такую чистоту?» Внизу помещаются дети от года до четырех лет, тоже все здоровые и веселые».
Функция матерей - грудное вскармливание, которое обеспечивает здоровое потомство. Родильные дома, ясли, сады - фабрики по производству новых людей. Рождение - физиологический акт, взращивание - акт производственный, воспитание - акт идеологический. Кормящих матерей одевают в косынки и халаты, так же как и работниц на производстве. Они производят кормление по расписанию, а между ними заняты важным делом - повышают свой культурный и политический уровень, занимаются гигиеной и вырабатывают необходимый для своей работы продукт - молоко.
Приведу два отрывка из периодики того времени, представляющие особый «колорит» эпохи: статья в журнале «Работница» (№ 1 <13>, январь 1924, с.10) озаглавлена
«Великий Октябрь и маленький октябрь»:
«Вот как прошла годовщина Великого Октября в стенах дома «Грудного ребенка». В тот день у работниц был семейный праздник - «крестины» их ребенка, ребенка кормилицы дома. … Как же назвать ребенка? Мать в недоумении - радость обстановки ее совсем смутила.
- Назвать в честь великого Октября. - вносится предложение. Мать соглашается, и море рук под звуки Интернационала нарекает малыша Пекарской Октябрем. Отныне дитя Пекарской - дитя всех служащих Дома грудного ребенка. День празднования первых крестин среди членов союза Всемедикосантруд - день спайки между его членами.…Кто же та самая героиня, решившаяся отказаться от старых дедовских обрядов? Сама Пекарская - дитя деревни, дитя сохи Украины. Уже 10 лет она работает по найму…»
А вот еще одно описание нового обряда («Работница», № 2, январь 1924, с.15. «Первые октябрины»):
«Шумно в клубе сотрудников Центрального Комитета Росс. Ком. Партии… Еще бы! Сегодня их праздник - одна из членов КСМ тов.Смородинова вводит в общество своего новорожденного сына. Она с ребенком на руках сидит в президиуме настоящего собрания, а рядом восприемники ее малыша: мать - делегатка от работниц тов. Валиева и отец -секретарь ячейки РКП тов.Поскребышев.
Что значит «октябрины»? Это значит, что у колыбели младенца стоит не церковь, а те, которые указали, что есть путь к лучшему на земле, а не на небе, как говорили попы и учила церковь. Младенца при вступлении его в новую жизнь встречают не попы, а борцы, которые говорят ему «борись». Во имя земного царства вступили мы в бой в октябре. Кто знает, может быть, этому ребенку суждено войти в это царство?
…Ответное слово отца ребенка… Пионеры выставляют почетный караул в честь новорожденного… Ячейка постановила дать имя ребенку тов.Смородиновой в честь коммунистического интернационала молодежи - Ким…»
В материнском дискурсе 20- годов полностью отсутствует тема любви. Коллонтай писала о крылатом и бескрылом эросе. Любовь индивидуальная, лежащая в основе «парного брака», направленная на одного или одну, требует огромной затраты душевной энергии. Между тем строитель новой жизни, рабочий класс заинтересован в том, чтобы экономно расходовать не только свои материальные богатства, но и сберегать душевно-духовную энергию каждого для общих задач коллектива».
Персональная привязанность - проявление индивидуализма. Дети важны для матерей постольку, поскольку они важны для коллектива (государства). В родильных, или детских, как их называли в начале 20-х, домах кормящие матери кормят не только своих детей. Младенцы нуждаются в грудном молоке, но это не обязательно молоко собственной матери. Из рассказа «О подкидыше» (Работница, 1924, № 22(32), с.31): «Сестра привела одну из матерей-кормилиц. - Вот, тов.Степанова, ваш второй сын. Око за око, зуб за зуб. Республика о вас заботится, вам отдых после родов дает, а вы ей лишнего гражданина вырастить помогите».
В дореволюционном городе младенческим попечением занимались церковь (крещение, акт рождения фиксируется именно в церковно-приходской книге), акушер и нянька/кормилица, посредством которой привлекался традиционный опыт. После революции к колыбели приставлены две инстанции, обе - государственные: медики и отделы записей актов гражданского состояния. Предшествующий традиционный «обычный» опыт материнства новое государство отрицает полностью. Невежественные матери не могут знать, как правильно растить своих детей, для правильного материнства нужны не матери, а специалисты. И эти специалисты - медики. Материнство и младенчество становится областью клиники.
Идея медицинского просвещения - одна из главных в развитии института патронажа, который вводится в советскую социальную практику в это время:
«Идея санитарно-просветительского патронажа при консультации заключается в том, чтобы научить мать практически у нея на дому правилам гигиены и питания грудного ребенка» . Автор статьи описал методику работы консультации и патронажа при Отделе Охраны материнства и младенчества Наркомздрава и привел статистику за 1923-1926 гг.
«Свои занятия с матерями сестры вели по отработанной мною для них схеме, рассчитанной в среднем на 4-6 посещений, причем сестрам вменялось в обязанность не только показать матери практически все правила ухода и кормления, но заставить ее все проделать при себе… При снятии матерей с детьми с патронажа мы классифицировали их, руководствуясь следующими данными: успешные, т.е. те, которые усвоили все правила ухода и кормления; их было 61,8%; не вполне успешные - это те, у которых отмечается какой-нибудь дефект в уходе или кормлении (напр. все хорошо в кормлении, но свивают, или качают, или не гуляют); их было 14,8%; и безуспешные - те, которые совершенно не поддавались влиянию санитарно-просветительского патронажа вследствие разных причин, т.е. - тяжелых материальных и жилищных условий, некультурности матери, влияния бабушек и родственников…»
Я лично столкнулась с институтом патронажа в начале 90-х. На фоне общего социального нестроения того времени, четко и сложно организованные действия, направленные государством в лице поликлинической патронажной сестры на мою персону, воспринимались как странный анахронизм. Государство, вторгаясь без временных согласований в твое жилище, строго и безапелляционно вопрошало: сколько комнат у тебя, сколько окон, где ты работаешь и сколько ты зарабатываешь, с кем ты живешь и каковы ваши отношения, как поставлена мебель в твоем доме, какое у тебя настроение и т.д. и т.п. Все вопросы протоколировались в стандартных формулярах.
Обезоруживала готовность советских бабушек ввериться медицинскому авторитету в деле ухода за младенцем. Авторитет государства в деле материнства для них был непререкаемым. Миллионные тиражи книги доктора Спока того времени, с его доверием к материнской интуиции - реакция молодых матерей, растерявшихся перед фактом одобряемого старшими женщинами вторжения государства в столь интимную сферу отношений и чувств. Формат государственного авторитаризма в деле материнства был заложен в советском институте здравоохранения.
Патронажные сестры, как это следует из инструктажа двадцатых годов, должны были учить матерей:
проветривать комнату,
соблюдать чистоту в отношении комнаты, постели и белья ребенка,
переносить постель ребенка к свету,
организовывать отдельную постель для ребенка («вместо того, чтобы спать с матерью, в люльке, в корзине и пр.»),
запрещать свивать младенца,
купать и подмывать,
выносить детей гулять,
не пользоваться пустышкой.
Описание текущей практики патронажа (за 1926 год) позволяет увидеть тот быт, на модернизацию которого были направлены усилия советской власти. Так например, рассматривалась работа патронажа в одном московском районе - Зарядье. Приведена краткая справка - в районе 72 дома, восемь переулков, «баня только еврейская - для исполнения ритуала».
«При посещении семьи поражает прежде всего люлька над кроватью матери - в темном углу… Беспорядочное кормление грудью; несколько раз приходилось наталкиваться на жевку; прикармливание Нестле с самого раннего возраста, неизвестно в каком разведении.. Свивальник - обязательная часть туалета ребенка; атласное стеганое одеяло для улицы - и отсутствие пеленок надлежащего размера. Откусывание ногтей, боязнь до года остригать волосы, укутывание, пассивность перед молочницей, себореей, срыгиванием, - как проявлением «цвета».35,3% посещаемых семей - малограмотны и неграмотны. Характерным в районе является сезонность работы: в сезонное время (с 1 августа по январь) в домах удручающая картина: в набитую до отказа квартиру вселяется масса людей. Грудные дети часто являются временным элементом, потому что связь жителей с деревней большая. Из деревни к мужьям переезжают на время жены с грудными детьми».
Главная цель институтов материнства и младенчества (позже - институтов педиатрии): воспитание правильных матерей-производительниц и государственный контроль за воспроизводством, с учетом всех передовых технологий. И хотя идеологи нового социалистического быта отмечали экономическую невозможность на текущем, «начальном» этапе обобществить советских детей, в планах советской страны стоит именно эта задача. Приведу рассуждения Луначарского по этому вопросу, с которым он вступил в 1926 году:
«При социалистическом строе мы можем сказать: обществу безразлично, как вы любите друг друга, - любите, как вам хочется, а дети, которые от этого родятся, будут обеспечены самим обществом. Вот в чем особенность социалистического строя, вот что он сможет сказать нам. Не важно, как ведут себя отцы и матери. Родился ребенок, - общество его берет, те, у кого родительских чувств нет, могут о нем и не заботиться. Но мы сейчас не можем так сказать. Мы не можем сказать: граждане и гражданки, сходитесь, размножайтесь, мы о ваших детях позаботимся. Не можем. Мы в этом году 46 миллионов,- значительную часть нашего бюджета по РСФСР, чрезвычайно отягощающую и отражающуюся на всем деле народного образования, - тратим на содержание государственных сирот. Наши детские дома и сейчас экономически и педагогически неудовлетворительны, - a y нас сотни тысяч детей, столько же, сколько мы приютили, бегают еще по улицам в качестве беспризорных полуживотных, и мы не можем, мы не имеем средств их поймать, приручить и сделать их нормальными государственными детьми. Можем ли мы при этих условиях говорить: плодитесь и множьтесь, мы позаботимся о детях?- Не можем» .
Итак, в конце двадцатых советское государство пока не может, но - хочет в будущем - взять на себя роль воспитателя детей, оставив физическим родителям лишь функцию их производства.
Очень показательны в этом отношении росписи фойе Института охраны материнства и младенчества в Москве, сделанные В.А.Фаворским в 1933 году: женщина в рабочем халате (мать?) отпускает из рук шагающего ребенка, передавая его женщине в медицинском халате, женщина-медик взвешивает ребенка, другая - измеряет его рост. У всех - сосредоточенные и сдержанные лица: люди на работе.
Очевидно, что лозунг «Пусть всегда будет мама!» в этом идеологическом контексте был совершенно не уместен.
Отношение к семье и материнству в корне меняется в тридцатые годы. Первая глава книги «Советская женщина -счастливая мать» - «Сталинская забота о матери и ребенке» предварена эпиграфом, о котором можно сказать только одно - нарочно не придумаешь:
«Ни в одной стране в мире женщина не пользуется таким полным равноправием во всех областях политической, общественной жизни и в семейном быту, как в СССР». (Из декрета о запрещении абортов).
«Сейчас нет почвы для ограничения деторождения. - Отмечает Юшкова. - Мы не имеем права больше калечить женский организм и лишать государство будущих советских богатырей. Мы не имеем права отнимать у женщины великое, святое чувство материнства» .
Именно с этого времени слово «святость» активно включается в официальный дискурс материнства. И тогда же активизируется контроль за женской сексуальностью: Реформа школьного образования, осуществленная в военном 1943 году, предусматривала раздельное обучение мальчиков и девочек. Собственно, с какой еще целью, как не с целью контроля над подростковой сексуальностью? Как отмечали многие исследователи, святая материнская любовь этой поры нужна была для производства «богатырей». Богатыри, рожденные в 1937 году, попавшие под запрет аборта, унаследуют как сыновнюю любовь-долг к «святой матери», так и социальное унижение безотцовщины, с погибшими, сидящими или отсутствующими в метриках отцами.
«Вот в вашем опросе я слышал, в заставке, что одна из женщин на улице высказала мысль о том, что мать-одиночка - это чуть ли не героиня нашего времени и прочее. А как вот этот героизм, как вы считаете, выглядит со стороны ребенка, особенно сына, который вынужден все свое детство и юность жить в неполной семье? И как он потом по жизни пойдет? Я, например, свое детство вспоминаю, я тоже был безотцовщиной, и у меня эта рана живет всю жизнь со мной. И особенно в мужских компаниях вот это отсутствие влияния отца в детстве сказывается даже уже в таком возрасте (Мать-одиночка. Радио «Свобода» Программа Татьяны Ткачук. Звонок радиослушателя)
М.Эпштейн предложил в качестве ключа к мифологии советской цивилизации миф об Эдипе. Философская основа марксистско-ленинского мировоззрения - материализм. В свою очередь, мифологическая основа материализма - культ матери-природы, почитание материнского начала бытия. «Материализм исходит из давнего и задушевного убеждения в правоте природы, в ее материнских правах на человека, в долге человека по отношению к матери-природе… Материя составляет материнское, порождающее, природное начало бытия, тогда как Бог - мужское и отцовское» . Воинствующий атеизм большевиков объектом агрессии имел Отца. Мать (природа) оставалась предметом поклонения и вожделения.Главной книгой нового материалистического мира стал роман Горького «Мать», и это было, по мнению автора, далеко не случайно. … «Это великолепно - мать и сын рядом!..» - заучивали мы со школьных лет, не чувствуя «горькой» подоплеки этих волнующих слов. И писали сочинения о том, как мысли и дела сына переполняют мать, как под влиянием Павла распрямляется ее душа и молодеет тело. Впоследствии Горький приоткрыл секрет своего мировоззрения; как это часто бывает с эротически опасными, «вытесненными» темами - в виде отсылки к другому писателю, природоведу и тайновидцу Земли Михаилу Пришвину, в сочинениях которого он находит и горячо одобряет дух всеобъемлющего инцеста с матерью-природой.«...Это ощущение Земли, как своей плоти, удивительно внятно звучит для меня в книгах Ваших, Муж и Сын великой Матери. Я договорился до кровосмешения? Но ведь это так: рожденный Землею человек оплодотворяет ее своим трудом...» Здесь ясно высказано то, что подсознательно заключено в образе Павла Власова - «мужа и сына великой матери» - и придает этому образу архетипическую глубину. Горький осознает, что «договорился до кровосмешения», но поскольку в 30-е годы это уже архетип целой новой цивилизации, постыдность признания исчезает, наоборот, заменяется гордостью за человека, дерзающего героически оплодотворять собственную мать»
Итак, по наблюдению М.Эпштейна, советский материалистический миф: миф о матери-земле, которою сладострастно «овладевает», совершив отцеубийство, сын.
В пользу предложенной трактовки советского мифа может свидетельствовать иконография материнства в советском монументальном искусстве.
Когда я впервые увидела чудотворную икону «Покрова Пресвятой Богородицы» в Монастыре св.Иоанна Кронштадтского, меня поразила идентичность композиций этой иконы и образа Матери-Родины на Пискаревском кладбище. Икона была написана по благословению о.Иоанна Кронштадтского в начале ХХ века, какое-то время находилась в храме монастыря. Как известно, монастырь оставался закрытым на протяжении многих лет советской власти. Что же касается монументального изображения Матери-родины, то история его появления такова. Пискаревский мемориал сооружался около десяти лет (1949-1960). По первоначальному проекту центром композиции должен был стать обелиск. Проект был изменен, обелиск заменила скульптура, которую создавали В.Исаева и Р.Таурит: «Поиски художественного образа этого величественного изваяния были для В.Исаевой и Р.Таурита сложным творческим процессом. После многих эскизов за четыре месяца до установленного срока они отказались увеличивать до нужных размеров утвержденную модель и в предельно сжатое время создали новую скульптуру» .
Случайно проходя мимо, я обнаружила памятную доску, сообщающую о том, что здесь жила скульптор В.Исаева, на доме, находящемся в трех кварталах от монастыря, что навело меня на предположение, что иконографический прообраз был знаком автору, повторившему его в скульптуре.
Но этот памятник - одно из многих изображений Великой Матери, созданных советским монументальным искусством в 50-80-е годы. На мозаике одной из наиболее пышно украшенных станций ленинградского метрополитена - Автово - фронтальное изображение женщины с мальчиком, сидящим у нее на плече: «Миру - мир! Наше дело правое - мы победим!» (Художники - А.К.Соколов и В.А.Воронец, 1955 г.). В композиции «Моя родина» (Московский автовокзал, 1972 г., художник Ю.К.Королев) семья имеет специфический состав: старшая женщина в платке и женщина молодая, с двумя мальчиками. Мозаика «Новая Эра» во внутреннем фойе посольства СССР в Стокгольме (1970 г., художник Мерперт) изображает парящую в воздухе без какой либо опоры женщину, которая держит в ладонях непропорционально маленького по отношению к ее фигуре младенца. На витраже в музее ленинского мемориального центра в Ульяновске (1970 г., художник А.А.Стошкус) изображена колоссальная женская фигура, вскинувшая вверх руки. Она изображена на фоне композиции из множества других людских фигур, в пропорции один к пяти к женскому образу, в том числе - протягивающее к ней руки дитя, композиционно вписанное в ее бедро. Барельеф «Мать» на Лемболовской твердыне (1967 г.) изображает немолодую женщину в платке, рукой прикрывающую младенца. На всех монументальных изображениях того времени матери - вздымают мечи,
снабжают ими воинов,
несут траурные венки,
держат живых или мертвых детей на руках.
Археолог будущего, обнаружив гигантоманию женских изображений древней советской эпохи, сделал бы однозначное заключение. Советские люди поклонялись Великой Матери. Эта богиня войны - она понуждает к ней мужчин и отдает им погребальные почести, а также подающая и охраняющая жизнь детей.
Но что же происходит с реальными матерями, в то время когда общество поклоняется и желает обладать «великой»? Каким жизненным сценарием снабжались они?
Советская практика охраны материнства и детства ликвидировала физическую близость матери и младенца при помощи яслей круглосуточного пребывания: «С 1945 года введено круглосуточное обслуживание детей в яслях и садах (в городах - 40% от общего числа мест, в деревнях - 15 %)» .
А вот очень показательный текст из методического пособия для работников дошкольных заведений: «Ясли представляют собой учреждение охраны младенчества и детства открытого типа, лечебно-профилактического, оздоровительного и воспитательного характера, рассчитанное для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В.И.Ленин называл такие учреждения «ростками коммунизма», так как они дают возможность женщине участвовать наравне с мужчиной во всех областях… общественной жизни… В основу организации яслей положен производственный принцип» .
Советские институты детства - дворцы пионеров и школьников с вожатыми и кружками, школы и пионерские лагеря с казарменным режимом, детские сады и прочих детские учреждения - отказав матерям в компетенции воспитания собственных детей, освободили их от необходимости принимать решения. Для этого были специалисты. Материнская задача состояла в подчинении компетентным инстанциям.
В традиции русской крестьянской свадьбы молодая жена должна была принять новые правила - безоговорочное подчинение мужу и его родителям:
У свекровушки - не у матушки родной,
У свекровушки - ходи по одной половушке.
Невеста вопрошала замужнюю сестру в причитании:
Уж как я-то да сиротиночка
Не могу умом подумать
Умом-разумом да поведать
Будет как да приступитися
Мне к этому чужим людям?
Уж как я-то, да сиротиночка,
Младым да молодешенька,
Я умом-разумом да глупешенька!
Расскажи-тко, да мила сестрица,
Мине как да приступитися
К удалому да добру молодцу?
Али мине да мила сестрица
Подтечи да быстры реченьки?
Али горой да подкатитися?
Или словами да подкупитися?
Или деньгами да подкупитися?
(Белозерский р-н, Вологодская обл., 1994 г)
Внушаемые невесте в процессе свадебного обряда новые для нее нормы поведения были связаны с ее замужеством. Женщина переходила к новым иерархическим отношениям: выходя из подчинения матери и отцу она, вплоть до собственной «большины», должна была подчиняться старшим в семье мужа и мужу. Сексуальное овладение молодой женой сопровождалось метафорами морального подчинения. Молодая жена снимала сапоги с ног мужа, лежащего на брачной постели, за что награждалась монеткой, лежащей в одном из сапог.
В советской практике женское тело контролировалось государством, посредством принудительной медицины. Провозглашенная и принятая как императив святость материнства делала отпор власти невозможным: не будешь слушаться врачей - убьешь себя и ребенка. Государство контролировало и факт овладения этим телом мужчиной . Второе могло быть скрыто от государства безбрачием, тогда в силу вступала «общественность» и родители, боящиеся общественного осуждения, вопрос общественного контроля над женским телом перемещался в сферу нравственности. В 1961 году на экраны страны вышел фильм «А если это любовь?» Десятиклассник Борис Рамзин написал однокласснице Ксении Завьяловой письмо, которое она случайно потеряла. Письмо попадает в руки другой девочки, потом в руки учительницы. Начинается скандал. Ксения, не сумев найти в себе силы быть выше пересудов и злословия, совершает попытку самоубийства... Фильм вызвал самую полемическую критику в прессе 1962 года. Прокат - 22.6 млн. зрителей.
Отношения между девушкой и парнем, школьниками, публично разбирались учителями, парторгами и директором школы на предмет степени их интимности. И государственный контроль оказывался более гуманным, нежели родительский. Факт совместного прогула школы однозначно толковался разъяренной матерью как утрата девичьей чести, падение, за что мать публично, при большом внимании соседок по двору, обвинила дочь.
Это - один из примеров общественной работы с женским жизненным сценарием. Безграничный материал на эту тему дают школьные сочинения и методические материалы по «Грозе» А.Н.Островского Контроль над женской сексуальностью осуществляется посредством страха стыда. Контроль над материнством использует другой страх - страх смерти, этот рычаг подавления - в руках медицины.
В русской традиционной культуре материнство понималось и как путь к освоению определенного магического знания. В 1984 году в фольклорной экспедиции на Пинеге мои собеседницы (женщины 55 и 80 лет, мать и дочь) в процессе разговора узнав о том, что я замужем, удалили на время моего коллегу и передали мне большое количество заговоров, связанных с магической защитой и лечением младенцев. Мотивировали они свое желание научить меня тем, что я должна быть готова стать матерью. За традиционной эзотерикой материнства стояла определенная магическая сила, получая новую ношу ответственности, мать одновременно наделялась новыми для нее магическими рычагами контроля и власти.
Советская практика материнства, напротив, устраняла какие-либо формы возможного материнского контроля над воспитанием и здоровьем ребенка. Но, ответственность за результаты такого государственного взращивания, тем не менее, была возложена именно на мать. Общество нагружало ее всей мерой вины за мораль и нравственность потомства: «яблоко от яблони недалеко падает», и постоянно заботилось об изменения фокуса зрения матери. На этапе беременности и младенчества этот фокус должен был сместиться в сторону переживания себя как неразумной плоти. Риторику этой общественной опеки над поведением будущей матери показала Т.Б.Щепанская: беременность и материнство меняли статус женщины в сторону лишения ее приватной личностной сферы. «Явление деперсонализации, отчуждения женщины от ее собственного тела весьма характерно для системы родовспоможения. Метафоры "смерти", "безумия", "звериности" поддерживают и обозначают эту деперсонализацию, а тем самым - и статус женщины в системе родовспоможения: статус "пациентки". Система принимает ее только на эту роль - пассивного объекта: "мертвого тела", лишенного собственного разума или, во всяком случае, знания - основания собственной активности и инициативы. Монополия на знание (и, следовательно, действие) принадлежит институту» .
Из замечаний Марии Арбатовой, перечислившей императивы «советской» матери:
«все логические попытки ощутить внутри себя живое существо мне не давались. То, что я беременна, то, что это кончится появлением кого-то маленького, и то, что я буду его матерью, я понимала, но по отдельности. Сознание мое не было приспособлено к тому, чтобы эти факты выстроились причинно-следственно. Культура моей страны не готовила меня к этому. "Ты - девочка, будущая мать, и потому не должна", - далее следовал список несправедливых ограничений, шаг в сторону - побег, слышала я с младых ногтей так же часто и с той же степенью недоверия как и то, что воинская обязанность - почетный долг каждого гражданина. "Я мать", - кричала маман, мотивируя любую карательную гадость. Чугунные и каменные матери толпились по городам и весям страны, их прообразы ругались в очередях, жаловались на пьяниц-мужей, охотно подставляли детей под расправу детских садов, больниц, пионерлагерей, школ, и мне совсем не хотелось пополнять их ряды»
Итак, что должна мать:
Она должна была чувствовать вину за неудобство, которое доставляют ее дети всем окружающим: воспитателям в детском саду, соседям за стенкой, врачам в поликлинике, учителям, мужу, который устал после рабочего дня: «Женщина, скажите вашему ребенку, чтоб не бегал/кричал/вертелся/хватал мои руки(врач)» и т.д. В-общем, женщина, наделите его смирением, молчанием и неподвижностью! Но, при этом, «проверьте, чтоб прочитал, выучил, узнал, рассказал, заполнил дневник, пришел вовремя и т.д». В-общем, научите его покорности и исполнительности. Следуйте инструкциям! Иначе, какая вы - мать!
Мать должна была быть солидарной с любой общественной инстанцией, выражающей недовольство ее ребенком, карать по указанию специалистов. Именно и только с этой целью родителей вызывали в школу, желая видеть их лично. В прочих случаях, когда родителям удавалось выполнить все предписания и заработать общественное одобрение, инстанции обходились письменными посланиями (грамотами). В домашних архивах советской поры, вперемешку с поздравительными открытками и фотографиями хранятся детские «грамоты» и «благодарности»: дана такой-то за такое-то место в соревновании по…, школа № выражает благодарность родителям NN за…
Болезнь и неуспех ребенка - вина матери, здоровье и успех - заслуга учителей и коллектива, а также оздоровительных мероприятий.
А еще - матерью быть стыдно, потому что - «не девушка» именно в физиологическом смысле. Супружество - слабое прикрытие совершенного греха, дети - неопровержимое доказательство падения. Именно поэтому, я думаю, прозвучал незабываемый возглас в одном из советско-американских телемостов: «В СССР секса нет!» Секс для советской женщины - постыдная тайна ее замужества. Его надо было скрывать, проживая в общих комнатах с родителями и детьми. Телесная сторона любви была полностью изъята из нормативного языка и переместилась в просторечие и брань. Собственно, все то, что делает русский мат, он делает с женщиной, клеймя ее за сексуальный опыт. Или же - размещает кого угодно в позицию женщины, имеющей сексуальный опыт. И, самое главное, что в этой позиции русский мат располагает именно мать.
На примере мифологии и социальной практики материнства можно увидеть, в какой степени художественные формы связаны с идеологическими установлениями общества/государства. Традиция советского времени, используя в значительной степени арсенал традиционных переходных ритуалов, решительно порвала как с эзотерикой крестьянского родильного обряда, приобщавшего родившую к сообществу матерей и мистике рода, так и с метафизикой появления новой души в традиции православной .
В практике советского материнства - дух доставался Великой Матери с мечом или траурным венком в руках, а также матери Природе. За призывом «Люби свой край!» стояли бесконечные поэтические и школьные высказывания о любви к родной природе-матери. Женщинам-матерям оставлялось только «натруженное», использованное тело, а также идея жертвенности. Она должна была соблюсти тело дочери под контролем государства и пожертвовать телом сына, воспитав его защитником Великой Матери.
Современная публичная речь свидетельствует о том, что описанный советский материнский миф актуален до сегодняшнего дня. "Иркутская Торговая газета" выясняла мнение разных специалистов относительно «национального проекта» материнства. Я выделяю озвученные специалистами стереотипы курсивом:
Главный редактор ИРА "Телеинформ" Елена Веселкова, отмечает:
- Конечно, материнство может быть профессией. Растить детей - тяжелое дело, особенно если их несколько…Очень многие хотели бы полностью посвятить себя детям, но не имеют возможности это претворить в жизнь. Вообще, любой человек должен иметь право выбора, а особенно женщины: делать карьеру или воспитывать ребенка.
Главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков:
- С точки зрения физиологии женщина обязана быть матерью. Хотя, если она станет только сидеть дома с детьми, у нее будут ущемлены права и в общественной, и профессиональной деятельности. Мы придем к тому, от чего ушли, - не для того существует демократия, чтобы возвращаться к средневековью. Это в южных республиках женщина воспитывает детей, а мужчина приносит добычу.
Директор cалона красоты Инги Матвеевой Инга Матвеева:
- Быть матерью - это не просто профессия, а призвание.
Руководитель Центра здоровье сберегающих технологий Иркутского государственного технического университета, кандидат медицинских наук Елена Маслова:
- Не разделяю подобную точку зрения. Так всегда был устроен мир, что женщина была матерью. В то же время она должна быть востребована в обществе, занимать активную жизненную позицию. Наоборот, если женщина будет заниматься исключительно детьми, то в каком-то смысле станет ущербной и, как следствие, не сможет полноценно их воспитать.
Я думаю, что со мной согласятся многие советские (да и постсоветские) матери. В максимальной степени собакой Павлова ты чувствуешь себя именно в материнской роли. Природная мощь материнского инстинкта, «зоологическая» часть твоих переживаний. - рычаг, доступ к которому узурпирован властными инстанциями. Материнство - трудное дело, поскольку оно требует личного и постоянного выбора, личной ответственности и осознанности собственных действий: материнство как опыт персональной ответственности, не случившийся в момент рождения ребенка, так и остается не освоенным. Матери-отличницы, взращивая своих детей, пугливо ждут внешних оценок за свое поведение.
Материнские инстинкты направляются условными знаками. Это - лампочки, которые включают и выключают посторонние люди, имеющие свои собственные посторонние цели. У самой матери доступа к этому рычагу управления нет. О том, что недоступность носит не универсальный, но временный и идеологический характер, я и хотела рассказать.
Источник <</span>>
Травмы поколений
Статья о том, как воспитывали наших родителей, как воспитывали нас и как сейчас мы воспитываем новое поколение. Очень интересный взгляд на проблемы отцов и детей. А главное, еще раз заставляет задуматься о том КАК мы это делаем, воспитываем, как мы любим своих детей.
Людмила Петрановская, психолог:
Как же она все-таки передается, травма?
Понятно, что можно всегда все объяснить «потоком», «переплетениями», «родовой памятью» и т. д., и, вполне возможно, что совсем без мистики и не обойдешься, но если попробовать? Взять только самый понятный, чисто семейный аспект, родительско-детские отношения, без политики и идеологии. О них потом как-нибудь.
Живет себе семья. Молодая совсем, только поженились, ждут ребеночка. Или только родили. А может, даже двоих успели. Любят, счастливы, полны надежд. И тут случается катастрофа. Маховики истории сдвинулись с места и пошли перемалывать народ. Чаще всего первыми в жернова попадают мужчины. Революции, войны, репрессии - первый удар по ним.
И вот уже молодая мать осталась одна. Ее удел - постоянная тревога, непосильный труд (нужно и работать, и ребенка растить), никаких особых радостей. Похоронка, «десять лет без права переписки», или просто долгое отсутствие без вестей, такое, что надежда тает. Может быть, это и не про мужа, а про брата, отца, других близких. Каково состояние матери? Она вынуждена держать себя в руках, она не может толком отдаться горю. На ней ребенок (дети), и еще много всего. Изнутри раздирает боль, а выразить ее невозможно, плакать нельзя, «раскисать» нельзя. И она каменеет. Застывает в стоическом напряжении, отключает чувства, живет, стиснув зубы и собрав волю в кулак, делает все на автомате. Или, того хуже, погружается в скрытую депрессию, ходит, делает, что положено, хотя сама хочет только одного - лечь и умереть. Ее лицо представляет собой застывшую маску, ее руки тяжелы и не гнутся. Ей физически больно отвечать на улыбку ребенка, она минимизирует общение с ним, не отвечает на его лепет. Ребенок проснулся ночью, окликнул ее - а она глухо воет в подушку. Иногда прорывается гнев. Он подполз или подошел, теребит ее, хочет внимания и ласки, она когда может, отвечает через силу, но иногда вдруг как зарычит: «Да, отстань же», как оттолкнет, что он аж отлетит. Нет, она не него злится - на судьбу, на свою поломанную жизнь, на того, кто ушел и оставил и больше не поможет.
Только вот ребенок не знает всей подноготной происходящего. Ему не говорят, что случилось (особенно если он мал). Или он даже знает, но понять не может. Единственное объяснение, которое ему в принципе может прийти в голову: мама меня не любит, я ей мешаю, лучше бы меня не было. Его личность не может полноценно формироваться без постоянного эмоционального контакта с матерью, без обмена с ней взглядами, улыбками, звуками, ласками, без того, чтобы читать ее лицо, распознавать оттенки чувств в голосе. Это необходимо, заложено природой, это главная задача младенчества. А что делать, если у матери на лице депрессивная маска? Если ее голос однообразно тусклый от горя, или напряжено звенящий от тревоги?
Пока мать рвет жилы, чтобы ребенок элементарно выжил, не умер от голода или болезни, он растет себе, уже травмированный. Не уверенный, что его любят, не уверенный, что он нужен, с плохо развитой эмпатией. Даже интеллект нарушается в условиях депривации. Помните картину «Опять двойка»? Она написана в 51. Главному герою лет 11 на вид. Ребенок войны, травмированный больше, чем старшая сестра, захватившая первые годы нормальной семейной жизни, и младший брат, любимое дитя послевоенной радости - отец живой вернулся. На стене - трофейные часы. А мальчику трудно учиться.
Конечно, у всех все по-разному. Запас душевных сил у разных женщин разный. Острота горя разная. Характер разный. Хорошо, если у матери есть источники поддержки - семья, друзья, старшие дети. А если нет? Если семья оказалась в изоляции, как «враги народа», или в эвакуации в незнакомом месте? Тут или умирай, или каменей, а как еще выжить?
Идут годы, очень трудные годы, и женщина научается жить без мужа. «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Конь в юбке. Баба с яйцами. Назовите как хотите, суть одна. Это человек, который нес-нес непосильную ношу, да и привык. Адаптировался. И по-другому уже просто не умеет. Многие помнят, наверное, бабушек, которые просто физически не могли сидеть без дела. Уже старенькие совсем, все хлопотали, все таскали сумки, все пытались рубить дрова. Это стало способом справляться с жизнью. Кстати, многие из них стали настолько стальными - да, вот такая вот звукопись - что прожили очень долго, их и болезни не брали, и старость. И сейчас еще живы, дай им Бог здоровья.
В самом крайнем своем выражении, при самом ужасном стечении событий, такая женщина превращалась в монстра, способного убить своей заботой. И продолжала быть железной, даже если уже не было такой необходимости, даже если потом снова жила с мужем, и детям ничего не угрожало. Словно зарок выполняла.
Ярчайший образ описан в книге Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».
А вот что пишет о «Страшной бабе» Екатерина Михайлова («Я у себя одна» книжка называется): «Тусклые волосы, сжатый в ниточку рот…, чугунный шаг… Скупая, подозрительная, беспощадная, бесчувственная. Она всегда готова попрекнуть куском или отвесить оплеуху: «Не напасешься на вас, паразитов. Ешь, давай!»…. Ни капли молока не выжать из ее сосцов, вся она сухая и жесткая…» Там еще много очень точного сказано, и если кто не читал эти две книги, то надо обязательно.
Самое страшное в этой патологически измененной женщине - не грубость, и не властность. Самое страшное - любовь. Когда, читая Санаева, понимаешь, что это повесть о любви, о такой вот изуродованной любви, вот когда мороз-то продирает. У меня была подружка в детстве, поздний ребенок матери, подростком пережившей блокаду. Она рассказывала, как ее кормили, зажав голову между голенями и вливая в рот бульон. Потому что ребенок больше не хотел и не мог, а мать и бабушка считали, что надо. Их так пережитый голод изнутри грыз, что плач живой девочки, родной, любимой, голос этого голода перекрыть не мог.
А другую мою подружку мама брала с собой, когда делала подпольные аборты. И она показывала маленькой дочке полный крови унитаз со словами: вот, смотри, мужики-то, что они с нами делают. Вот она, женская наша доля. Хотела ли она травмировать дочь? Нет, только уберечь. Это была любовь.
А самое ужасное - что черты «Страшной бабы» носит вся наша система защиты детей до сих пор. Медицина, школа, органы опеки. Главное - чтобы ребенок был «в порядке». Чтобы тело было в безопасности. Душа, чувства, привязанности - не до этого. Спасти любой ценой. Накормить и вылечить. Очень-очень медленно это выветривается, а нам-то в детстве по полной досталось, няньку, которая половой тряпкой по лицу била, кто не спал днем, очень хорошо помню.
Но оставим в стороне крайние случаи. Просто женщина, просто мама. Просто горе. Просто ребенок, выросший с подозрением, что не нужен и нелюбим, хотя это неправда и ради него только и выжила мама и вытерпела все. И он растет, стараясь заслужить любовь, раз она ему не положена даром. Помогает. Ничего не требует. Сам собой занят. За младшими смотрит. Добивается успехов. Очень старается быть полезным. Только полезных любят. Только удобных и правильных. Тех, кто и уроки сам сделает, и пол в доме помоет, и младших уложит, ужин к приходу матери приготовит. Слышали, наверное, не раз такого рода расказы про послевоенное детство? «Нам в голову прийти не могло так с матерью разговаривать!» - это о современной молодежи. Еще бы. Еще бы. Во-первых, у железной женщины и рука тяжелая. А во-вторых - кто ж будет рисковать крохами тепла и близости? Это роскошь, знаете ли, родителям грубить.
Травма пошла на следующий виток.
***
Настанет время, и сам этот ребенок создаст семью, родит детей. Годах примерно так в 60-х. Кто-то так был «прокатан» железной матерью, что оказывался способен лишь воспроизводить ее стиль поведения. Надо еще не забывать, что матерей-то многие дети не очень сильно и видели, в два месяца - ясли, потом пятидневка, все лето - с садом на даче и т . д. То есть «прокатывала» не только семья, но и учреждения, в которых «Страшных баб» завсегда хватало.
Но рассмотрим вариант более благополучный. Ребенок был травмирован горем матери, но вовсе душу ему не отморозило. А тут вообще мир и оттепель, и в космос полетели, и так хочется жить, и любить, и быть любимым. Впервые взяв на руки собственного, маленького и теплого ребенка, молодая мама вдруг понимает: вот он. Вот тот, кто наконец-то полюбит ее по-настоящему, кому она действительно нужна. С этого момента ее жизнь обретает новый смысл. Она живет ради детей. Или ради одного ребенка, которого она любит так страстно, что и помыслить не может разделить эту любовь еще на кого-то. Она ссорится с собственной матерью, которая пытается отстегать внука крапивой - так нельзя. Она обнимает и целует свое дитя, и спит с ним вместе, и не надышится на него, и только сейчас, задним числом осознает, как многого она сама была лишена в детстве. Она поглощена этим новым чувством полностью, все ее надежды, чаяния - все в этом ребенке. Она «живет его жизнью», его чувствами, интересами, тревогами. У них нет секретов друг о друга. С ним ей лучше, чем с кем бы то ни было другим.
И только одно плохо - он растет. Стремительно растет, и что же потом? Неужто снова одиночество? Неужто снова - пустая постель? Психоаналитики тут бы много чего сказали, про перемещенный эротизм и все такое, но мне сдается, что нет тут никакого эротизма особого. Лишь ребенок, который натерпелся одиноких ночей и больше не хочет. Настолько сильно не хочет, что у него разум отшибает. «Я не могу уснуть, пока ты не придешь». Мне кажется, у нас в 60-70-е эту фразу чаще говорили мамы детям, а не наоборот.
Что происходит с ребенком? Он не может не откликнуться на страстный запрос его матери о любви. Это вывшее его сил. Он счастливо сливается с ней, он заботится, он боится за ее здоровье. Самое ужасное - когда мама плачет, или когда у нее болит сердце. Только не это. «Хорошо, я останусь, мама. Конечно, мама, мне совсем не хочется на эти танцы». Но на самом деле хочется, ведь там любовь, самостоятельная жизнь, свобода, и обычно ребенок все-таки рвет связь, рвет больно, жестко, с кровью, потому что добровольно никто не отпустит. И уходит, унося с собой вину, а матери оставляя обиду. Ведь она «всю жизнь отдала, ночей не спала». Она вложила всю себя, без остатка, а теперь предъявляет вексель, а ребенок не желает платить. Где справедливость? Тут и наследство «железной» женщины пригождается, в ход идут скандалы, угрозы, давление. Как ни странно, это не худший вариант. Насилие порождает отпор и позволяет-таки отделиться, хоть и понеся потери.
Некоторые ведут свою роль так искусно, что ребенок просто не в силах уйти. Зависимость, вина, страх за здоровье матери привязывают тысячами прочнейших нитей, про это есть пьеса Птушкиной «Пока она умирала», по которой гораздо более легкий фильм снят, там Васильева маму играет, а Янковский - претендента на дочь. Каждый Новый год показывают, наверное, видели все. А лучший - с точки зрения матери - вариант, если дочь все же сходит ненадолго замуж и останется с ребенком. И тогда сладкое единение можно перенести на внука и длить дальше, и, если повезет, хватит до самой смерти.
И часто хватает, поскольку это поколение женщин гораздо менее здорово, они часто умирают намного раньше, чем их матери, прошедшие войну. Потому что стальной брони нет, а удары обиды разрушают сердце, ослабляют защиту от самых страшных болезней. Часто свои неполадки со здоровьем начинают использовать как неосознанную манипуляцию, а потом трудно не заиграться, и вдруг все оказывается по настоящему плохо. При этом сами они выросли без материнской внимательной нежной заботы, а значит, заботиться о себе не привыкли и не умеют, не лечатся, не умеют себя баловать, да, по большому счету, не считают себя такой уж большой ценностью, особенно если заболели и стали «бесполезны».
Но что-то мы все о женщинах, а где же мужчины? Где отцы? От кого-то же надо было детей родить?
С этим сложно. Девочка и мальчик, выросшие без отцов, создают семью. Они оба голодны на любовь и заботу. Она оба надеются получить их от партнера. Но единственная модель семьи, известная им - самодостаточная «баба с яйцами», которой, по большому счету, мужик не нужен. То есть классно, если есть, она его любит и все такое. Но по-настоящему он ни к чему, не пришей кобыле хвост, розочка на торте. «Посиди, дорогой, в сторонке, футбол посмотри, а то мешаешь полы мыть. Не играй с ребенком, ты его разгуливаешь, потом не уснет. Не трогай, ты все испортишь. Отойди, я сама» И все в таком духе. А мальчики-то тоже мамами выращены. Слушаться привыкли. Психоаналитики бы отметили еще, что с отцом за маму не конкурировали и потому мужчинами себя не почувствовали. Ну, и чисто физически в том же доме нередко присутствовала мать жены или мужа, а то и обе. А куда деваться? Поди тут побудь мужчиной…
Некоторые мужчины находили выход, становясь «второй мамой». А то и единственной, потому что сама мама-то, как мы помним, «с яйцами» и железом погромыхивает. В самом хорошем варианте получалось что-то вроде папы дяди Федора: мягкий, заботливый, чуткий, все разрешающий. В промежуточном - трудоголик, который просто сбегал на работу от всего от этого. В плохом - алкоголик. Потому что мужчине, который даром не нужен своей женщине, который все время слышит только «отойди, не мешай», а через запятую «что ты за отец, ты совершенно не занимаешься детьми» (читай «не занимаешься так, как Я считаю нужным»), остается или поменять женщину - а на кого, если все вокруг примерно такие? - или уйти в забытье.
С другой стороны, сам мужчина не имеет никакой внятной модели ответственного отцовства. На их глазах или в рассказах старших множество отцов просто встали однажды утром и ушли - и больше не вернулись. Вот так вот просто. И ничего, нормально. Поэтому многие мужчины считали совершенно естественным, что, уходя из семьи, они переставали иметь к ней отношение, не общались с детьми, не помогали. Искренне считали, что ничего не должны «этой истеричке», которая осталась с их ребенком, и на каком-то глубинном уровне, может, были и правы, потому что нередко женщины просто юзали их, как осеменителей, и дети были им нужнее, чем мужики. Так что еще вопрос, кто кому должен. Обида, которую чувствовал мужчина, позволяла легко договориться с совестью и забить, а если этого не хватало, так вот ведь водка всюду продается.
Ох, эти разводы семидесятых - болезненные, жестокие, с запретом видеться с детьми, с разрывом всех отношений, с оскорблениями и обвинениями. Мучительное разочарование двух недолюбленных детей, которые так хотели любви и счастья, столько надежд возлагали друг на друга, а он/она - обманул/а, все не так, сволочь, сука, мразь… Они не умели налаживать в семье круговорот любви, каждый был голоден и хотел получать, или хотел только отдавать, но за это - власти. Они страшно боялись одиночества, но именно к нему шли, просто потому, что, кроме одиночества никогда ничего не видели.
В результате - обиды, душевные раны, еще больше разрушенное здоровье, женщины еще больше зацикливаются на детях, мужчины еще больше пьют.
У мужчин на все это накладывалась идентификация с погибшими и исчезнувшими отцами. Потому что мальчику надо, жизненно необходимо походить на отца. А что делать, если единственное, что о нем известно - что он погиб? Был очень смелым, дрался с врагами - и погиб? Или того хуже - известно только, что умер? И о нем в доме не говорят, потому что он пропал без вести, или был репрессирован? Сгинул - вот и вся информация? Что остается молодому парню, кроме суицидального поведения? Выпивка, драки, сигареты по три пачки в день, гонки на мотоциклах, работа до инфаркта. Мой отец был в молодости монтажник-высотник. Любимая фишка была - работать на высоте без страховки. Ну, и все остальное тоже, выпивка, курение, язва. Развод, конечно, и не один. В 50 лет инфаркт и смерть. Его отец пропал без вести, ушел на фронт еще до рождения сына. Неизвестно ничего, кроме имени, ни одной фотографии, ничего.
Вот в таком примерно антураже растут детки, третье уже поколение.
В моем классе больше, чем у половины детей родители были в разводе, а из тех, кто жил вместе, может быть, только в двух или трех семьях было похоже на супружеское счастье. Помню, как моя институтская подруга рассказывала, что ее родители в обнимку смотрят телевизор и целуются при этом. Ей было 18, родили ее рано, то есть родителям было 36-37. Мы все были изумлены. Ненормальные, что ли? Так не бывает!
Естественно, соответствующий набор слоганов: «Все мужики - сволочи», «Все бабы - суки», «Хорошее дело браком не назовут». А что, жизнь подтверждала. Куда ни глянь…
Но случилось и хорошее. В конце 60-х матери получили возможность сидеть с детьми до года. Они больше не считались при этом тунеядками. Вот кому бы памятник поставить, так автору этого нововведения. Не знаю только, кто он. Конечно, в год все равно приходилось отдавать, и это травмировало, но это уже несопоставимо, и об этой травме в следующий раз. А так-то дети счастливо миновали самую страшную угрозу депривации, самую калечащую - до года. Ну, и обычно народ крутился еще потом, то мама отпуск возьмет, то бабушки по очереди, еще выигрывали чуток. Такая вот игра постоянная была - семья против «подступающей ночи», против «Страшной бабы», против железной пятки Родины-матери. Такие кошки-мышки.
А еще случилось хорошее - отдельно жилье стало появляться. Хрущобы пресловутые. Тоже поставим когда-нибудь памятник этим хлипким бетонным стеночкам, которые огромную роль выполнили - прикрыли наконец семью от всевидящего ока государства и общества. Хоть и слышно было все сквозь них, а все ж какая-никакая - автономия. Граница. Защита. Берлога. Шанс на восстановление.
Третье поколение начинает свою взрослую жизнь со своим набором травм, но и со своим довольно большим ресурсом. Нас любили. Пусть не так, как велят психологи, но искренне и много. У нас были отцы. Пусть пьющие и/или «подкаблучники» и/или «бросившие мать козлы» в большинстве, но у них было имя, лицо и они нас тоже по своему любили. Наши родители не были жестоки. У нас был дом, родные стены.
Не у все все одинаково, конечно, были семье более и менее счастливые и благополучные.
Но в общем и целом.
Короче, с нас причитается.
***
Итак, третье поколение. Не буду здесь жестко привязываться к годам рождения, потому что кого-то родили в 18, кого-то - в 34, чем дальше, тем больше размываются отчетливые «берега» потока. Здесь важна передача сценария, а возраст может быть от 50 до 30. Короче, внуки военного поколения, дети детей войны.
«С нас причитается» - это, в общем, девиз третьего поколения. Поколения детей, вынужденно ставших родителями собственных родителей. В психологи такое называется «парентификация».
А что было делать? Недолюбленные дети войны распространяли вокруг столь мощные флюиды беспомощности, что не откликнуться было невозможно. Поэтому дети третьего поколения были не о годам самостоятельны и чувствовали постоянную ответственность за родителей. Детство с ключом на шее, с первого класса самостоятельно в школу - в музыкалку - в магазин, если через пустырь или гаражи - тоже ничего. Уроки сами, суп разогреть сами, мы умеем. Главное, чтобы мама не расстраивалась. Очень показательны воспоминания о детстве: «Я ничего у родителей не просила, всегда понимала, что денег мало, старалась как-то зашить, обойтись», «Я один раз очень сильно ударился головой в школе, было плохо, тошнило, но маме не сказал - боялся расстроить. Видимо, было сотрясение, и последствия есть до сих пор», «Ко мне сосед приставал, лапать пытался, то свое хозяйство показывал. Но я маме не говорила, боялась, что ей плохо с сердцем станет», «Я очень по отцу тосковал, даже плакал потихоньку. Но маме говорил, что мне хорошо и он мне совсем не нужен. Она очень зилась на него после развода». У Дины Рубинной есть такой рассказ пронзительный «Терновник». Классика: разведенная мама, шестилетний сын, самоотверженно изображающий равнодушие к отцу, которого страстно любит. Вдвоем с мамой, свернувшись калачиком, в своей маленькой берлоге против чужого зимнего мира. И это все вполне благополучные семьи, бывало и так, что дети искали пьяных отцов по канавам и на себе притаскивали домой, а мамочку из петли вытаскивали собственными руками или таблетки от нее прятали. Лет эдак в восемь.
А еще разводы, как мы помним, или жизнь в стиле кошка с собакой» (ради детей, конечно). И дети-посредники, миротворцы, которые душу готовы продать, чтобы помирить родителей, чтобы склеить снова семейное хрупкое благополучие. Не жаловаться, не обострять, не отсвечивать, а то папа рассердится, а мама заплачет, и скажет, что «лучше бы ей сдохнуть, чем так жить», а это очень страшно. Научиться предвидеть, сглаживать углы, разряжать обстановку. Быть всегда бдительным, присматривать за семьей. Ибо больше некому.
Символом поколения можно считать мальчика дядю Федора из смешного мультика. Смешной-то смешной, да не очень. Мальчик-то из всей семьи самый взрослый. А он еще и в школу не ходит, значит, семи нет. Уехал в деревню, живет там сам, но о родителях волнуется. Они только в обморок падают, капли сердечные пьют и руками беспомощно разводят.
Или помните мальчика Рому из фильма«Вам и не снилось»? Ему 16, и он единственный взрослый из всех героев фильма. Его родители - типичные «дети войны», родители девочки -«вечные подростки», учительница, бабушка… Этих утешить, тут поддержать, тех помирить, там помочь, здесь слезы вытереть. И все это на фоне причитаний взрослых, мол, рано еще для любви. Ага, а их всех нянчить - в самый раз.
Так все детство. А когда настала пора вырасти и оставить дом - муки невозможной сепарации, и вина, вина, вина, пополам со злостью, и выбор очень веселый: отделись - и это убьет мамочку, или останься и умри как личность сам.
Впрочем, если ты останешься, тебе все время будут говорить, что нужно устраивать собственную жизнь, и что ты все делаешь не так, нехорошо и неправильно, иначе уже давно была бы своя семья. При появлении любого кандидата он, естественно, оказывался бы никуда не годным, и против него начиналась бы долгая подспудная война до победного конца. Про это все столько есть фильмов и книг, что даже перечислять не буду.
Интересно, что при все при этом и сами они, и их родители воспринимали свое детство как вполне хорошее. В самом деле: дети любимые, родители живы, жизнь вполне благополучная. Впервые за долгие годы - счастливое детство без голода, эпидемий, войны и всего такого.
Ну, почти счастливое. Потому что еще были детский сад, часто с пятидневкой, и школа, и лагеря и прочие прелести советского детства, которые были кому в масть, а кому и не очень. И насилия там было немало, и унижений, а родители-то беспомощные, защитить не могли. Или даже на самом деле могли бы, но дети к ним не обращались, берегли. Я вот ни разу маме не рассказывала, что детском саду тряпкой по морде бьют и перловку через рвотные спазмы в рот пихают. Хотя теперь, задним числом, понимаю, что она бы, пожалуй, этот сад разнесла бы по камешку. Но тогда мне казалось - нельзя.
Это вечная проблема - ребенок некритичен, он не может здраво оценить реальное положение дел. Он все всегда принимает на свой счет и сильно преувеличивает. И всегда готов принести себя в жертву. Так же, как дети войны приняли обычные усталость и горе за нелюбовь, так же их дети принимали некоторую невзрослость пап и мам за полную уязвимость и беспомощность. Хотя не было этого в большинстве случаев, и вполне могли родители за детей постоять, и не рассыпались бы, не умерили от сердечного приступа. И соседа бы укоротили, и няньку, и купили бы что надо, и разрешили с папой видеться. Но - дети боялись. Преувеличивали, перестраховывались. Иногда потом, когда все раскрывалось, родители в ужасе спрашивали: «Ну, почему ты мне сказал? Да я бы, конечно…» Нет ответа. Потому что - нельзя. Так чувствовалось, и все.
Третье поколение стало поколением тревоги, вины, гиперотвественности. У всего этого были свои плюсы, именно эти люди сейчас успешны в самых разных областях, именно они умеют договариваться и учитывать разные точки зрения. Предвидеть, быть бдительными, принимать решения самостоятельно, не ждать помощи извне - сильные стороны. Беречь, заботиться, опекать.
Но есть у гиперотвественности, как у всякого «гипер» и другая сторона. Если внутреннему ребенку военных детей не хватало любви и безопасности, то внутреннему ребенку «поколения дяди Федора» не хватало детскости, беззаботности. А внутренний ребенок - он свое возьмет по-любому, он такой. Ну и берет. Именно у людей этого поколения часто наблюдается такая штука, как «агрессивно-пассивное поведение». Это значит, что в ситуации «надо, но не хочется» человек не протестует открыто: «не хочу и не буду!», но и не смиряется «ну, надо, так надо». Он всякими разными, порой весьма изобретательными способами, устраивает саботаж. Забывает, откладывает на потом, не успевает, обещает и не делает, опаздывает везде и всюду и т. п. Ох, начальники от этого воют прямо: ну, такой хороший специалист, профи, умница, талант, но такой неорганизованный…
Часто люди этого поколения отмечают у себя чувство, что они старше окружающих, даже пожилых людей. И при этом сами не ощущают себя «вполне взрослыми», нет «чувства зрелости». Молодость как-то прыжком переходит в пожилой возраст. И обратно, иногда по нескольку раз в день.
Еще заметно сказываются последствия «слияния» с родителями, всего этого «жить жизнью ребенка». Многие вспоминают, что в детстве родители и/или бабушки не терпели закрытых дверей: «Ты что, что-то скрываешь?». А врезать в свою дверь защелку было равносильно «плевку в лицо матери». Ну, о том, что нормально проверить карманы, стол, портфель и прочитать личный дневник… Редко какие родители считали это неприемлемым. Про сад и школу вообще молчу, одни туалеты чего стоили, какие нафиг границы… В результате дети, выросший в ситуации постоянного нарушения границ, потом блюдут эти границы сверхревностно. Редко ходят в гости и редко приглашают к себе. Напрягает ночевка в гостях (хотя раньше это было обычным делом). Не знают соседей и не хотят знать - а вдруг те начнут в друзья набиваться? Мучительно переносят любое вынужденное соседство (например, в купе, в номере гостиницы), потому что не знают, не умеют ставить границы легко и естественно, получая при этом удовольствие от общения, и ставят «противотанковые ежи» на дальних подступах.
А что с семьей? Большинство и сейчас еще в сложных отношения со своими родителями (или их памятью), у многих не получилось с прочным браком, или получилось не с первой попытки, а только после отделения (внутреннего) от родителей.
Конечно, полученные и усвоенный в детстве установки про то, что мужики только и ждут, чтобы «поматросить и бросить», а бабы только и стремятся, что «подмять под себя», счастью в личной жизни не способствуют. Но появилась способность «выяснять отношения», слышать друг друга, договариваться. Разводы стали чаще, поскольку перестали восприниматься как катастрофа и крушение всей жизни, но они обычно менее кровавые, все чаще разведенные супруги могут потом вполне конструктивно общаться и вместе заниматься детьми.
Часто первый ребенок появлялся в быстротечном «осеменительском» браке, воспроизводилась родительская модель. Потом ребенок отдавался полностью или частично бабушке в виде «откупа», а мама получала шанс таки отделиться и начать жить своей жизнью. Кроме идеи утешить бабушку, здесь еще играет роль многократно слышанное в детстве «я на тебя жизнь положила». То есть люди выросли с установкой, что растить ребенка, даже одного - это нечто нереально сложное и героическое. Часто приходится слышать воспоминания, как тяжело было с первенцем. Даже у тех, кто родил уже в эпоху памперсов, питания в баночках, стиральных машин-автоматов и прочих прибамбасов. Не говоря уже о центральном отоплении, горячей воде и прочих благах цивилизации. «Я первое лето провела с ребенком на даче, муж приезжал только на выходные. Как же было тяжело! Я просто плакала от усталости» Дача с удобствами, ни кур, ни коровы, ни огорода, ребенок вполне здоровый, муж на машине привозит продукты и памперсы. Но как же тяжело!
А как же не тяжело, если известны заранее условия задачи: «жизнь положить, ночей не спать, здоровье угробить». Тут уж хочешь - не хочешь… Эта установка заставляет ребенка бояться и избегать. В результате мама, даже сидя с ребенком, почти с ним не общается и он откровенно тоскует. Нанимаются няни, они меняются, когда ребенок начинает к ним привязываться - ревность! - и вот уже мы получаем новый круг - депривированого, недолюбленного ребенка, чем-то очень похожего на того, военного, только войны никакой нет. Призовой забег. Посмотрите на детей в каком-нибудь дорогом пансионе полного содержания. Тики, энурез, вспышки агрессии, истерики, манипуляции. Детдом, только с английским и теннисом. А у кого нет денег на пансион, тех на детской площадке в спальном районе можно увидеть. «Куда полез, идиот, сейчас получишь, я потом стирать должна, да?» Ну, и так далее, «сил моих на тебя нет, глаза б мои тебя не видели», с неподдельной ненавистью в голосе. Почему ненависть? Так он же палач! Он же пришел, чтобы забрать жизнь, здоровье, молодость, так сама мама сказала!
Другой вариант сценария разворачивает, когда берет верх еще одна коварная установка гиперотвественных: все должно быть ПРАВИЛЬНО! Наилучшим образом! И это - отдельная песня. Рано освоившие родительскую роль «дяди Федоры» часто бывают помешаны на сознательном родительстве. Господи, если они осилили в свое время родительскую роль по отношению к собственным папе с мамой, неужели своих детей не смогут воспитать по высшему разряду? Сбалансированное питание, гимнастика для грудничков, развивающие занятия с года, английский с трех. Литература для родителей, читаем, думаем, пробуем. Быть последовательными, находить общий язык, не выходить из себя, все объяснять, ЗАНИМАТЬСЯ РЕБЕНКОМ. И вечная тревога, привычная с детства - а вдруг что не так? А вдруг что-то не учли? а если можно было и лучше? И почему мне не хватает терпения? И что ж я за мать (отец)?
В общем, если поколение детей войны жило в уверенности, что они - прекрасные родители, каких поискать, и у их детей счастливое детство, то поколение гиперотвественных почти поголовно поражено «родительским неврозом». Они (мы) уверены, что они чего-то не учли, не доделали, мало «занимались ребенком (еще и работать посмели, и карьеру строить, матери-ехидны), они (мы) тотально не уверенны в себе как в родителях, всегда недовольны школой, врачами, обществом, всегда хотят для своих детей больше и лучше.
Несколько дней назад мне звонила знакомая - из Канады! - с тревожным вопросом: дочка в 4 года не читает, что делать? Эти тревожные глаза мам при встрече с учительницей - у моего не получаются столбики! «А-а-а, мы все умрем!», как любит говорить мой сын, представитель следующего, пофигистичного, поколения. И он еще не самый яркий, так как его спасла непроходимая лень родителей и то, что мне попалась в свое время книжка Никитиных, где говорилось прямым текстом: мамашки, не парьтесь, делайте как вам приятно и удобно и все с дитем будет хорошо. Там еще много всякого говорилось, что надо в специальные кубики играть и всяко развивать, но это я благополучно пропустила:) Оно само развилось до вполне приличных масштабов.
К сожалению, у многих с ленью оказалось слабовато. И родительствовали они со страшной силой и по полной программе. Результат невеселый, сейчас вал обращений с текстом «Он ничего не хочет. Лежит на диване, не работает и не учится. Сидит, уставившись в компьютер. Ни за что не желает отвечать. На все попытки поговорить огрызается.». А чего ему хотеть, если за него уже все отхотели? За что ему отвечать, если рядом родители, которых хлебом не корми - дай поотвечать за кого-нибудь? Хорошо, если просто лежит на диване, а не наркотики принимает. Не покормить недельку, так, может, встанет. Если уже принимает - все хуже.
Но это поколение еще только входит в жизнь, не будем пока на него ярлыки вешать. Жизнь покажет.
Чем дальше, чем больше размываются «берега», множатся, дробятся, причудлво преломляются последствия пережитого. Думаю, к четвертому поколению уже гораздо важнее конкретный семейный контекст, чем глобальная прошлая травма. Но нельзя не видеть, что много из сегодняшнего дня все же растет из прошлого.
взято с сайта:
Источник <</span>>
Ирина(от древнегреческого "мир, покой").
Святые покровители: Ирина Македонская - раннехристианская святая, почитаемая в лике великомучеников, одна из самых почитаемых личностей в христианской традиции. Святая Ирина жила I веке и была дочерью правителя г. Мигдоний. До крещения носила имя Пенелопа. Но, когда к ней явились Ангел Господень, архангел Гавриил и апостол Павел, приняв крещение, Ангел дал ей имя Ирина, которое переводится как "мир". Однажды к ней явился Иисус, вручил ей кольцо и велел ей оставаться девой, т.к. хочет обручить ее себе. Уже повзрослевшую Ирину отец захотел выдать замуж. Но девица категорически отказалась, т.к. была уже Невестой Христовой. Мать Ирины, тайная христианка, радовалась обращению дочери в христианство. Узнав обетом, отец впал в ярость и бросил дочь под копыта лошадей. Лошади не тронули Ирину, а один из них насмерть затоптал Ликиния, который затем был воскрешён по молитве дочери и сам принял христианство. Правители подвергали ее нечеловеческим мучениям, но Бог всегда оставлял ее невредимой. По приказу нового правителя Седекия, святую бросили в ров, наполненный змеями. Но Ангел Господень сохранил ее невредимой. Тогда Седекия повелел распилить Ирину пилой, но пилы ломались одна за другой. Наконец, четвертая пила обагрила тело мученицы. Седекия со смехом сказал: "Где же твой Бог?" Внезапно поднялся вихрь, вдарила ослепительная молния, поразившая многих мучителей. Однако Седекия продолжал пытки, но возмущенный народ изгнал его из города. Св. Ириной были обращены в христианство более 10 тыс. язычников. Вновь вытерпев все мучения, святая Ирина отправилась со своими учениками в пещеру, приказала ученикам завалить вход и не входить в пещеру раньше четвертого дня. Когда на четвертый день ученики отвалили камень от входа и вошли в пещеру, то нашли гробницу пустой. Ирина стала первой в христианстве женщиной, почитаемой в лике великомучеников.
Известные личности: Ирина Византийская, Ирина Годунова, Ирена Монсдоттер, Ирина Каховская или "Жанна д'Арк из сибирских колодниц", Ирина Бугримова, Ирена Сендлер, Ирина Муравьёва, Ирина Чащина.
Екатерина(от древнегреческого "чистая, незапятнанная").
Святые покровители: Екатерина Александрийская - христианская святая, почитаемая в лике великомучеников. Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время правления императора Максимина (305 - 313). Живя в столице - центре эллинской учености, Екатерина, обладавшая редкой красотой и умом, получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых. До крещения носила имя Доротея. Мать Екатерины, тайная христианка, делала все возможное, что бы дочь обратилась на путь истинный. Приняв крещение, Екатерина стала благочестивой христианкой. Позже Екатерина Александрийская приняла мученическую смерть. При допросе Екатерина публично заявила о своей вере в Иисуса Христа и обвинила императора в язычестве. Приглашенные императором мудрецы со всей империи пытались переубедить её, но святая Екатерина сама обратила их в христианство вместе с несколькими членами императорской семьи и представителями римской аристократии. Под угрозой колесования ей предложили отречься от христианской веры и принести жертву богам. Святая непреклонно исповедала Христа и сама подошла к колесам, но Ангел сокрушил орудия казни, и они разлетелись на куски, перебив многих язычников. Император вновь попытался прельстить святую мученицу, предложив ей супружество, и вновь получил отказ. Святая Екатерина твердо исповедовала веру в Христа и с молитвой к нему сама положила голову на плаху под меч палача. Ее тело было перенесено ангелами в монастырь на гору Синай.
Известные личности: Екатерина II Великая, Катрина Каиф.
Татьяна(от древнегреческого "устроительница").
Святые покровители: Татиана Римская - христианская святая, почитаемая в лике великомучеников. Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере (царствовал с 222 по 235 годы) Татиана была схвачена и приведена в храм Аполлона, где её пытались заставить поклониться статуе этого языческого бога. По преданию, Татиана вознесла молитву Иисусу Христу, и произошедшее землетрясение разрушило статую Аполлона и обрушило часть храма, под которой погибло много людей. Житие Татианы рассказывает об этом со множеством художественных деталей: «Диавол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причём все слышали вопль его и видели тень, пронесшуюся по воздуху». Судьи, решив, что Татиана занимается волхвованием с помощью своих волос, остригли их и заперли её на два дня в храме Зевса. На третий день жрецы, придя в храм, чтобы принести жертву Зевсу, обнаружили его статую разбитой, а Татиану живой. После этого ей был вынесен смертный приговор и она вместе со своим отцом была усечена мечом (проще говоря, им отрубили головы). Мученическая смерть Татианы произошла 12 января 226 года.
Известные личности: Татьяна Буланова, Татьяна Навка.
София(от древнегреческого "мудрость").
Святые покровители: София Римская - христианская святая, почитаемая в лике мучеников. Мать трех дочерей - Веры, Надежды и Любови - София, имя которой означает «премудрость», воспитала чад в вере, надежде и любви к Богу. Они происходили из богатой и благочестивой семьи. Однажды, во время пребывания святых в Риме, они были задержаны солдатами императора, до которого дошла молва об их благочестии и добродетелях. Император был поражен твердостью веры столь юных дев и приказал приводить их к себе по отдельности, думая, что так они не будут подражать друг другу и не дерзнут дать ему отпор. Вере было 12 лет, Надежде - 10 и Любови - 9. На глазах у матери их истязали по очереди. Веру избили немилосердно и отрезали груди, но вместо крови из раны истекло молоко. Потом ее положили на раскаленное железо. Мать молилась вместе с дочерью и укрепляла ее в страдании - и железо не обожгло Веру. Будучи брошенной в котел с кипящей смолой, Вера громко молилась Господу и осталась невредимой. Тогда Адриан приказал отрубить ей голову. Следом были замучены и убиты Надежда и Любовь. Чтобы продлить мучения матери, император не подвергал ее пыткам, он отдал ей истерзанные тела трех девочек. София положила их в ковчег и с почестями похоронила на высоком холме за городом. Три дня сидела мать у могилы дочерей и наконец предала свою душу Господу. Верующие погребли ее тело на том же месте.
Известные личности: София Ротару - популярная певица.
Вера(от старославянского "вера, верование").
Святые покровители: Вера Римская - христианская святая, почитаемая в лике мучениц. Вместе с матерью и двумя сестрами была схвачена слугами императора и приведена во дворец. Первой предстала перед тираном двенадцатилетняя Вера. Она уверенно отвечала на льстивые речи Адриана, осудив его нечестие и злые замыслы против христиан. Разгневанный император приказал раздеть девушку и нещадно бичевать. Затем ей отрезали сосцы, и из ран вместо крови потекло молоко. Другие мучения, которым подвергли Веру, также не сломили ее, огражденную силой Божией. Святая София все это время поощряла дочь радостно принять смерть, соединяющую со Христом. После истязаний святая Вера была обезглавлена. Их мать радовалась духом, видя столь славные подвиги дочерей, достигших небесных обителей, но ее человеческое сердце было столь измождено страданием, что через несколько дней святая София отошла ко Господу на могиле своих чад.
Известные личности: Вера Сотникова - российская телеведущая.
Надежда(от старославянского "надежда").
Святые покровители: Надежда Римская - христианская святая, почитаемая в лике мучениц. Затем император приказал позвать Надежду, которой было десять лет. Она была столь же тверда в исповедании Христа истинным Богом, как и ее сестра. Ее бичевали, затем бросили в горящую печь, но пламя погасло, ибо любовь к Богу, горевшая в душе Надежды, была сильнее всякого чувственного пламени. После многих других мучений она также приняла смерть от меча, воссылая хвалы Господу. Их мать радовалась духом, видя столь славные подвиги дочерей, достигших небесных обителей, но ее человеческое сердце было столь измождено страданием, что через несколько дней святая София отошла ко Господу на могиле своих чад.
Известные личности: Надежда Константиновна Крупская, Надежда Кадышева, Надежда Бабкина.
Любовь(от старославянского "любовь").
Святые покровители: Любовь Римская - христианская святая, почитаемая в лике мучеников. Адриан, сильно разгневавшись, призвал Любовь, которой было всего девять лет. Но и это дитя обнаружило такое же мужество, как сестры. Ее подвесили на дыбе и растянули так сильно, что начали ломаться суставы ног и рук. Затем девочку бросили в пылающую печь, но Любовь вышла из огня невредимой. В конце концов святая Любовь была усечена мечом. Их мать радовалась духом, видя столь славные подвиги дочерей, достигших небесных обителей, но ее человеческое сердце было столь измождено страданием, что через несколько дней святая София отошла ко Господу на могиле своих чад.
Известные личности: Любовь Петровна Орлова, Любовь Полищук.
Марина(от латинского "морская").
Святые покровители: Марина Антиохийская - христианская святая, почитаемая в лике мучеников.
Известные личности: Марина Цветаева, Марина Мнишек.
Анастасия(от греческого "воскресшая").
Святые покровители: нет
Известные личности: Роксолана(Анастасия Гавриловна Лисовская).

Примерно в 5 часов утра автобус забрал меня от отеля, и мы поехали вглубь Синайского полуострова. По дороге мы заезжали за туристами из других отелей. В команде был оператор, который снимал наше путешествие. Я тоже была с камерой, хотя особо снимать не получалось - надо было всё время торопиться чтобы не отстать от группы.
1 Мальчик жил в семье уже полтора года.Но привыкнуть к нему так,чтобы чувствовать себя совершенно свободно-не получалось. Мальчик казался противным,очень раздражали всякие неприятные привычки.В какой-то момент мне стало казаться,что ничего не получится,что мы так и промучаемся рядом,пока не получится друг от друга избавиться.От того,чтобы отдать обратно, удерживало только то,что на курсах предупреждали об ответственности.Сама ответственность как-то не вырастала.Я решила все-таки сходить к психологу.К тому,вернее,той-с курсов.О чем говорили-я сейчас уже и не помню.Но вышла с твердым решением-постараться увидеть,как ему тревожно и неуютно из-за того,что нет никого,кто любил бы его со всеми недостатками.Я честно старалась думать об этом,замечать его выражение лица,смотреть в глаза,когда желала "спокойной ночи".

Примерно в 5 часов утра автобус забрал меня от отеля, и мы поехали вглубь Синайского полуострова. По дороге мы заезжали за туристами из других отелей. В команде был оператор, который снимал наше путешествие. Я тоже была с камерой, хотя особо снимать не получалось - надо было всё время торопиться чтобы не отстать от группы. А видео которое предлагает оператор.....заезженная до дыр кассета, на скорую руку смонтированое видео, вобщем и целом можно и без него спокойно обойтись. Непреложное правило для всех: внутри самого храма съёмка запрещена! Путь от Шарм-эль-Шейха до монастыря занимает часа два и идет через Синайскую пустыню. По пути мы заезжали в лавку, где желающие могли приобрести иконы и подать записки о здравии и упокое. Однако цены там довольно высокие (от 30-50 долларов). Судя по иконам там очень почитается Св. Георгий, Св. Екатерина и Св. Елена (В 324 году мать императора Константина Елена приказала построить на месте Неопалимой Купины капеллу). Гид по имени Махмуд, сразу же начал своё повествование о жизни Святой Екатерины в Александрии Египетской, о ее казни по приказу римского императора Максимина за нежелание отречься от христианства и принять язычество. Также гид рассказал нам и об истории Монастыря, названного ее именем. Итак....
Почти ежедневно мы слышим рекламу в метро, призывающую посетить православную ярмарку на ВВЦ, на которой можно «задать вопросы священнику, встретиться с православным психологом и приобрести монастырскую продукцию». Что же реально представляет собой православная ярмарка на ВВЦ, с кем там можно встретиться и чьи консультации получить – мы попробовали разобраться.
